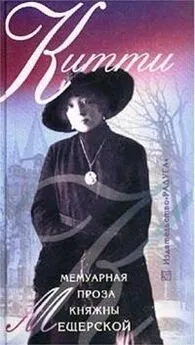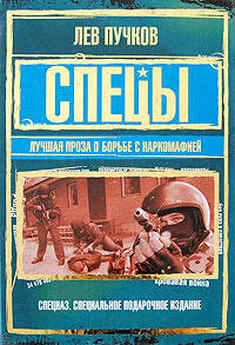Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
- Название:Меандр: Мемуарная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза краткое содержание
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Меандр: Мемуарная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Безо всякой подготовки, среди совсем других сюжетов, вдруг. Сидим мы с Иосифом рядом. Он что-то быстро пишет в тетради. Держит тетрадь так, чтобы мне было видно. Меня охватывает восторг: я запомню, что он пишет, и, когда проснусь, запишу. Но вот незадача: как ни вглядываюсь, не могу разобрать слов, хотя мы сидим совсем рядом, касаясь друг друга плечами.
2. Меандр: рассказ самому себе
2
Мною движет прежде всего желание рассказать свою жизнь самому себе.
ВЛ. ЛИФШИЦ
И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим это не было так интересно, как ему.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Зощенко, Ахматова, Пастернак. В семье А.П. Чехова. Поль Робсон, Роберт Фрост, Элизабет Тейлор и др
Я видел пьяного Ленина, голого Сталина, однажды сильно напугал Хрущева, ударил Тынянова, сидел рядом со всеми остальными вышеперечисленными. Начинаю я с них, чтобы сразу отделаться, так как собираюсь писать не об этом.
Михаила Михайловича Зощенко я видел два раза. В первый раз, когда мне было лет семнадцать-восемнадцать. Отец приехал в Ленинград по делам и мы зашли с ним в Дом писателей, сели перекусить в буфете и тут вошел Зощенко. Увидел отца (они дружили), подсел к нам: "А, вы семгу едите, я тоже хочу". Буфетчица сказала: "Кончилась семга, Михал Михалыч, рубленая селедочка есть". — "Ну, давайте селедочку". Мы ели семгу, а Зощенко рубленую селедку. О чем они говорили с отцом, не помню. Другой раз — года три спустя, то есть незадолго до его смерти. В "Ленинградском альманахе" напечатали несколько моих рифмованных строчек. Распираемый глупой гордостью, я стоял в темноватом коридоре в очереди за первым в жизни литературным гонораром. И вдруг заметил, что на два-три человека впереди меня стоит Зощенко. Он подошел к кассе, очень отчетливо, как будто редкое или иностранное имя, назвал себя: "Зощенко Михаил Михайлович". Получил довольно большую пачку денег и ушел ни на кого не глядя.
Зачем пишутся воспоминания? Чтобы не уйти из жизни бесследно, нацарапать "Здесь был Вася"? Из тщеславного желания пристегнуть себя к великим покойникам: "В это время мы с Ахматовой работали над переводами из Леопарди…"? Для сведения счетов с прошлым и настоящим? Есть исторические мемуары, имеющие документальную ценность. Их пишут люди, которых жизнь вовлекла в дела, обычно интересующие историков. Или простые люди, бесхитростно оставляющие свидетельства прошлого быта. Но как быть с той потребностью рассказать свою жизнь самому себе, которую почувствовал перед смертью мой отец? Что рассказывать? В литературные формы легко укладываются только редкие приключения и анекдоты, то есть то, что в жизни было случайным и побочным, не составляло ее главного содержания. Главная область воспоминаний — детство, но что можно написать о детстве, если в нем самым важным были фантастические мечтания и сны? Как можно писать мемуары о том, что десятилетиями составляло предмет самых глубоких радостей и горестей, — о жене, детях? Кто знает, впрочем, может быть, рассказ о не-главном, о том, что в какой-то степени поддается описанию, вдруг да и скажет мне то, чего я не умею сказать себе прямыми словами. Ведь так оно получается в стихах, когда стихи получаются. Так что буду писать что могу и как могу, "писать похоже на сон или облако" по примеру Подростка. О старушке и сосисках, незнакомом мальчике с укутанным в вату горлом, толстых стеклянных крышах и медных копейках под водой. А в этой главе о встречах со знаменитыми людьми.
Тынянов… Сам я, сказать по правде, ничего не помню, но мама часто рассказывала. Нам уже дали жилье в писательском доме на канале Грибоедова. Тынянов, который чем-то ведал по общественной части то ли в союзе, то ли в литфонде, заглянул к нам — что-то ему надо было сказать моему отцу. Родителей не было дома, только двухлетний я с домработницей. Будучи человеком оригинальным, Тынянов не отделался от ребенка обычным "Как тебя зовут? Сколько тебе лет?", а сказал: "Давай драться", — на что я, младенец, естественно, не знал, как отвечать. Но тут папа пришел, усадил Юрия Николаевича в кресло и они стали разговаривать. И в середине разговора я неожиданно вылез из-за спинки кресла с папиной домашней туфлей в руке и изо всех младенческих сил хлопнул этой туфлей по голове, в которой уже носились замыслы романа "Пушкин" (неоконч.).
Поздней осенью 44-го или зимой 45-го года, пообедав (жареная картошка) после школы, я маршировал по темноватым, затхловатым, страшноватым коридорам нашего дома, звонил и меня впускали в теплую и светлую квартиру Эйхенбаума. Для его внучки Лизы и ее двоюродной сестры была нанята француженка. Мама попросила, чтобы взяли и меня. Ученье было самое простое. Пожилая дама указывала пальцем в потолок: "lе plafond". Потом в пол: "lе plancher". Потом неопределенно помахивала ручкой: "lа maison". Но на меня, как только все это начиналось, находило что-то непонятное — совершенно не в силах, да и не стараясь совладать с собой, наоборот, радостно, я начинал щипать девочек. Кузины, натурально, взвизгивали и сердились. Француженка бранилась. Ученье это продолжалось для меня недолго — попросили маму больше меня не присылать. К французскому я вернулся только в университете и знаю его через пень-колоду. Лиза, я слышал, свободно владеет французским. Что касается ее деда, то в моих воспоминаниях он время от времени появляется в дверном проеме и улыбается неопределенно.
Весной 56-го года мой отец с Ириной Николаевной, намыкавшись по наемным углам, въехали в свою кооперативную квартиру на Аэропортов- ской. Их соседями через площадку оказались Шкловские. Я не раз слушал прославленные монологи Виктора Борисовича и начисто забывал к следующему утру. Не жалел об этом ни тогда, ни теперь: большую часть услышанного можно найти в его книгах и в записях людей с памятью, устроенной по-другому (А.П. Чудакова, например). Для меня же запоминать остроты и афоризмы было бы большим трудом и убийством сиюминутного переживания. Я всегда боялся нарушить автономию живущей во мне памяти, понуждать ее, она сама знала, что для нее важно, а что нет. В своем месте я расскажу, как Шкловский помог мне в начале моей недолгой карьеры кукольного драматурга.
В своем месте я расскажу о двух часах, проведенных с Пастернаком. Но я начал с пьяного Ленина. Это, разумеется, поэтическая вольность. Рожденный в 1937 году, я Ленина видеть не мог, но у меня однажды было безумное ощущение, что я его вижу.
Тут дело в Пунчёнке. Николай Иванович Пунчёнок, детский писатель, не только в литэнциклопедию не попал, но даже в подробных списках "Советской литературы для детей" не упоминается (я сейчас проверил). Скорее всего не потому, что он писал хуже, чем другие детские писатели-моряки, Золотницкий, Сахарнов, а потому, что значительно меньше. Это имя, Коля Пунчёнок, которому так соответствовала сплющенная кнопка боксерского носа над висячими сивыми усами, мне казалось милым и забавным. К тому же всех носивших синюю флотскую форму я выделял из компании родительских приятелей. Вадим Сергеевич Шефнер рассказывал мне, как однажды у него и Пунчёнка были одновременно путевки в Дом творчества в Дубулты. Ехали вместе, и в дороге Пунчёнок говорил, что все, теперь точно он засядет за главное дело своей жизни, большой роман. Тут главное взять разгон не надрывной, но равномерной работой. Десять страниц в день — это ведь совсем немного: пяток страниц с утра, после обеда прогулка на свежем воздухе, и еще пять страниц. Больше не нужно. Но за двадцать шесть дней-то получится — 26x10 — двести шестьдесят страниц. А это уже, считай, половина романа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: