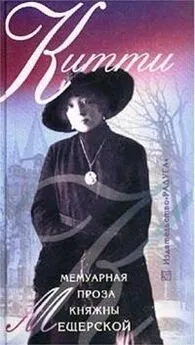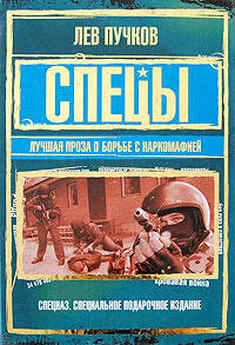Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
- Название:Меандр: Мемуарная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза краткое содержание
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Меандр: Мемуарная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
"Вокруг" считалось поэтической "находкой", как тогда говорили. Все это было лишь окукливание. Заемный кокон вскоре был отброшен, и появился тот совершенно небывалый поэт, каким Ерёмин остается, меняясь очень медленно, вот уже больше сорока лет. Поэзия Ерёмина предельно недемократична. Ерёмин — это Фет. Но там, где Фет видел лист, ветку, траву, небо и слышал слово, Ерёмин видит ген, клетку, молекулу, атом, слышит индоевропейский корень. Если вы не знаете всего этого или хотя бы не догадываетесь об этих существенных штучках, стихи Ерёмина для вас бессмысленны, даже такие, где, казалось бы, все эти сложности и не поминаются.
Над сквером дом — букет вечерних окон.
Собор от мира сквером огражден.
Лист золотой намотан словно локон
На ту же ветвь, которой был рожден.
Осенний день, на грех и слезы падкий,
Молчанье и раскаянье поймет.
Оставив пепел от письма в лампадке
И в медальоне дьявола помет.
В сущности не о насекомых и химических реакциях, не о филогенезе и архитектуре, а о храме и грехе, Боге и дьяволе Ерёмин пишет всегда.
Рейн, Бобышев, Найман были нашими знакомыми, а Рейн, самый живой и талантливый, — другом. Но они любили, чтобы было красиво, как у акмеистов, любили поминать Господа и ангелов, Сезанна и Ван Гога, а то и французскую строчку ввернуть. Да и стиль жизни у них был другой. Они острили каламбурами (что у нас считалось дурным тоном), их принимали в хороших домах — у Люды Штерн. Они вились вокруг Ахматовой. Меньше пили. Не матерились. Не участвовали в ресторанных драках. Не имели приводов. Не слышали шума времени. Кроме Рейна. Когда подрос и возник Бродский, он покрутился и у нас, и у них, и у горняков и ушел сам по себе.
В Москве мы считали близкими себе Красовицкого, Черткова, Хромова, потом Сапгира и Холина. И Сережу Чудакова. Ерёмин познакомился с ним на пароходе на Азовском море, и Чудаков стал приезжать к нам и загащиваться подолгу. Он восхищался стихами Ерёмина, Уфлянда, всеми, и сам писал похоже:
Шли конвойцы вчетвером,
бравые молодчики.
А в такси мосье Харон
ставил ноль на счетчике.
Весной 1955 года, поглядывая через Неву, из окна большой и душной 31-й аудитории, под жужжание лектора, я разрисовал обложку тонкой тетради, написал на ней бордовым карандашом: "Весенняя Антология, 1955". Вписал какую-то свою чепуху: "Апрель. И шлепает по лужам / под солнцем согнутый костяк, / и медные глаза полушек / из луж пристыженно блестят.." Потом несколько стихов вписал Кулле. Потом еще кто-то. А потом мне один благожелатель шепнул: "Уничтожь свою антологию. Ею в парткоме интересуются…" Я не уничтожил, я ее потерял в Нью-Йорке двадцать один год спустя. Бог с ней. Поэты дождались типографии. Да и не в печати дело. Годы непечатания не назовем выморочными: все это время помянутые здесь мои друзья много брали у родного языка, щедрой сторицей возвращая ему.
Крестный отец самиздата
Мужик всплескивает крылами и, с восторгом в очах, с криком: "Летю- уу!" — рушится вниз. Это начало фильма "Андрей Рублев", и мужика-эпиграф там сыграл Николай Иванович Глазков.
Он был очень хороший поэт. Кроме того, он обогатил мировой словарь одним словом, что само по себе немало. Слово это — самиздат.
Глазков прожил жизнь московским юродивым. В годы, когда печататься не было совсем уж никакой возможности, он отстукивал свои стихи на машинке, скреплял стопочку кое-как и на титуле пониже названия писал: самсебяиздат или самиздат.
Среди стихов были замечательные, такие, что запоминаются навсегда, образуют в душе жгучий мотивчик — музыкальное сопровождение нашей жизни:
Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
Литературные начальники, читая такое, иногда похохатывали, иногда клеймили в своей газете, но в общем ненормального не трогали.
Его таким манером и в армию не взяли. Он в 1941 году был в Туле и уже стоял в голой очереди к военкому. Военком был брав и краток. Каждому новобранцу он задавал один лишь вопрос:
Котелок варит?
Многие смущались:
Да вроде… ничего…
Отлично, — отрубал военком. — Годен. Следующий!
Иные пытались словчить:
Не… не особенно… И этим военком отрубал:
Отлично. Солдату много думать не надо. Дошла очередь до Коли.
Котелок варит? — выкрикнул свое военком.
Получше, чем у тебя, — ответил поэт.
Шизофреник, не годен, — сказал военком, подумав. Я дружил с Глазковым несколько недель: летом 1958 года оказались соседями по койкам в общем номере сочинской гостиницы.
По утрам Глазков работал на балконе.
С восьми до двенадцати я перевожу двести строк с ненецкого или каракалпакского. Из них сто выкинут, а сто напечатают. Если взять минимум: сто строк по пять рублей…
Расчеты были убедительные, но по всем признакам ежедневных пятисот не получалось. Впрочем, на свою коечку и ежедневную бутылку любимого молдавского три звездочки коньяка Коля зарабатывал.
Я люблю три вещи: коньяк, жару и женщин. Я ненавижу три вещи: селедку, холод и ССП.
Он был необычайно рассудителен. На редкость здравая интонация звучит даже в его известных вольных стишках.
На небе солнышко смеется.
Зазеленела вся трава.
А Нина мне не отдается,
И в этом Нина не права.
Чему ее учили в школе? и т. д.
В самом деле — чему?
Резоны его всегда были просты и потому неотразимы.
Лет десять назад отец рассказывал мне о перевыборном собрании в Союзе писателей.
Выдвигали кандидатов. Все как обычно. Предлагают Ошанина. "Отводы есть?" И вдруг встает какой-то человек с готическим лицом: "Есть". Председатель закипает: "Глазков, у вас должны быть основания для отвода". — "У меня есть основания. Я отвожу кандидатуру Льва Ивановича на том основании, что Лев Иванович человек подлый". И сел. Шум. Ошанина прокатили.
Для поэта он был чудовищно силен физически. Любил заприметить в ресторанной публике подгулявшего богатыря, шахтера или штангиста, косолапо подходил и молча протягивал свою медвежью лапу для мужской забавы. Он всех пережимал. Он однажды меня спас. Мы с ним лазали над Агурским водопадом, я поскользнулся и предвосхитил будущий крик "ле- тю-уу!". Коля, сам стоя на карнизе шириной в ступню, зацепил меня за шиворот и вытянул.
Однажды утром он сказал:
— Приснилось четверостишие —
Была у деда борода
Седа, как зимний лес.
И величава, как вода
На Куйбышевской ГЭС.
Когда времена полегчали, он так и стал издаваться, издеваясь. В самой глазковской продуктивности было что-то шутовское (двести строк с восьми до двенадцати, сто выкинут…). Из оставшихся ста добрая половина приходилась на "паровозики" (ура-стишки, чтобы протолкнуть книжку). Но глазковские "паровозики" были написаны от лица идиота, зазубрившего лозунги начальства. Эффект получался неожиданный. Например, о Владивостоке:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: