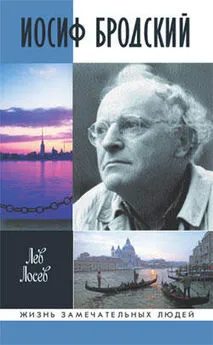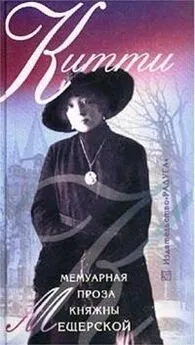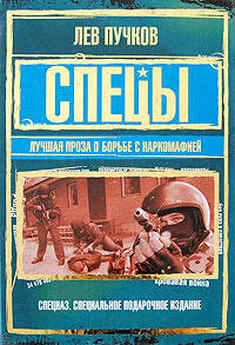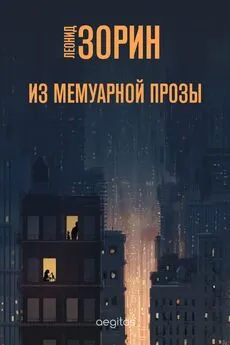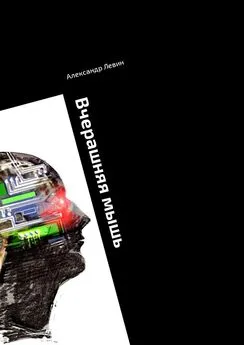Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
- Название:Меандр: Мемуарная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза краткое содержание
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Меандр: Мемуарная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Жить в Ялте зимой оказалось очень приятно. Плавать в подогретом открытом бассейне, поглядывая на заснеженные горы. Пить херес у киоска. По вечерам сочинять новую кукольную пьесу с героями, позаимствованными из любимой с детства книги Рабле.
В ялтинском Доме творчества зимой, кроме третьесортных писателей, вроде нас, отдыхали по путевкам донецкие шахтеры. В отличие от писателей, которые бухали и днем, шахтеры выпивали по вечерам и шумно возвращались в Дом творчества около полуночи. Один раз я заподозрил этих подземных работников в сверхъестественных способностях. Я сидел поздно вечером за столом в своей комнате высоко на третьем этаже, задумавшись над тем, как бы завернуть сюжет в пьеске, и при этом рука автоматически рисовала рожи на рукописи. Внизу послышался гомон нетрезвых шахтеров. И вдруг один голос снизу с крайним презрением произнес: "Пишут они, рисуют!"
3
Тулупы мы
Неправильно думать, что все началось в 1953 или даже в 1956 году. Развитие русской культуры, в том числе жизнь русской поэзии, не прекращалось никогда, даже в самые глухие годы сталинской империи нищих. Самиздат — и явление, и само слово — появился в 40-е годы. Всегда находились поэты и художники достаточно молодые, пьющие или сумасшедшие (или все это вместе), чтобы пренебрегать опасностью и резвиться у лагерной бездны на краю. Слабые, кривые, а все это были ветки еще живого древа русской культуры, а не отрезанный прутик, "сохраненный" в эмигрантской банке.
Унизив и изничтожив Маяковского, большевики назвали его "лучшим, талантливейшим": было бы лучше для них, если бы они этого не делали. Ибо Владимир Владимирович, хотя и служил исправной пропагандистской завитушкой на ихнем железобетоне, но также прикрывал и не замеченный товарищами пролом в стене, через который можно было проникнуть к футуризму, к Хлебникову, к главному стволу. В 47-м или в 50-м году школьники читали не только "Стихи о советском паспорте", но и "Человек", и "Облако в штанах" (в 1956 году именно ранний Маяковский стал нашим паролем, пропуском к Пастернаку) и вслед за этим отправлялись в рискованное путешествие по недочищенным библиотекам, по лавкам букинистов, по барахолкам, где невероятные книжки Бурлюка и Кручёныха считались в те времена копеечным хламом. Это, в общем, удачно сложилось, что тов. Сталин назвал Маяковского "лучшим, талантливейшим…". Если бы в 1930 году застрелилась Ахматова, и к власти затем пришел бы Бухарин, и А.А. была бы названа "лучшей, талантливейшей поэтессой нашей советской эпохи": станция метро "Ахматовская" (мозаика с сероглазыми королями), танкер "Ахматова", переиздания вплоть до "Библиотеки пионера и школьника" — это был бы более трудный путь для выживания культуры: лучше через будетлянство и кубофутуризм добраться до Ахматовой и Мандельштама и всего остального, чем любой другой путь. Русский футуризм заражал приобщавшихся воинственностью, установкой на эпатаж, то есть необходимыми душевными качествами, а русский формализм (как теоретический сектор футуризма) обеспечивал универсальный подход, метод, систему. Итак, от Маяковского шли к Хлебникову и Кручёныху, а затем назад уже через Заболоцкого и обэриутов, то есть приобщаясь к наивысшей иронии и философичности, какая только существовала в русской культуре.
Вот почему могло случиться совершенно невероятное по газетным масштабам 1951 года событие: футуристическая демонстрация на филологическом факультете Ленинградского государственного ордена В.И. Ленина университета им. А. А. Жданова. Несколько восемнадцатилетних первокурсников — Эдуард Кондратов, Михаил Красильников и Юрий Михайлов, наряженные в сапоги и рубахи навыпуск, 1 декабря 1951 года пришли в университет и, усевшись на пол в кружок в перерыве между лекциями, хлебали квасную тюрю из общей миски деревянными ложками, распевая подходящие к случаю стихи Хлебникова и как бы осуществляя панславянскую хлебниковскую утопию. Конечно, их разогнали, их свели в партком, их допрашивали, кто подучил, их призывали к раскаянию и выдаче зачинщиков (увы, и то и другое частично имело место), их шельмовали на открытых комсомольских собраниях и в закрытых докладах, наконец, Красильникова и Михайлова выгнали из комсомола и из университета; в рабочей среде, на заводе, они должны были завоевать право продолжать изучать старославянский язык и основы марксизма-ленинизма. По меркам эпохи они отделались легко, и тому были две причины: во-первых, внешне русофильский характер хеппенинга (главное, что не жидовские космополиты), во-вторых, они, сами того не подозревая, своей эскападой удружили массе молодых прохвостов, которым требовался трамплин для карьеры, — появилось кого шельмовать, демонстрируя собственную идейность и бдительность, на каком основании подсиживать — не проявившее достаточной бдительности — начальство и т. д. и т. п. Добрый десяток карьер начался в тот декабрьский денек: один напечатал статью в "Комсомолке", приобрел репутацию "боевитого журналиста", а один даже, начав с того, что волочил славянофилов за шиворот в партбюро, дошел в конце концов до службы в ЦК.
Во время шельмований и бичеваний всплыло еще одно обстоятельство, ранее, именно в силу своей невероятности, проскользнувшее незамеченным. Неофутуристы успели выпустить осенью 1952 года несколько рукописных альманахов. Надо сказать, что до окончательного разгрома в декабре неофутуристы уже успели разделиться на две непримиримо враждующие фракции, одна выпустила альманах под названием "Брынза", на выход которого другая откликнулась экстренным выпуском альманаха "Съедим брынзу!". Видимо, сами альманашники в глубине души считали свое дело не более чем игрой, но божественная то была игра, раздвигавшая горизонты слова и смысла, невероятные в эпоху, когда вершиной поэзии считалось "Я вышел на трибуну в зал, / Мне зал напоминал войну…" или "Позвольте мне сказать Вам это слово, / Простое слово сердца моего…". Блестящее жонглирование метрами, аллитерациями, рифмами ставило сюжет (содержание) в небывало ироническое, гротескное наклонение. К сожалению, в памяти только обрывочные, вероятно, не лучшие строчки (как помнится, это из совместных опусов Красильникова-Михайлова).
Из экзотической любовной поэмы "Чаанэ":
Чаанэ застенчива,
Чаанэ отчаянна,
Чаанэ изменчива
Чрезвычайно.
Чересчур черна,
Вычурна.
…………………..
Умчи
В Урумчи,
Доскачи
До Маныча.
Не мычи,
Не кричи,
Я хочу
Сама начать…
Из революционной поэмы об Индонезии:
Несем дары и зло мы,
Дар-уль исламы,
Носам дыры изломы
Да руль осла мы.
В 1953 году авторов пустили обратно в университет. Сталин мертв. Берия низвержен. На радостях они пишут поэму в строк 150 палиндромов. Помню только два, посвященных бериевским сатрапам:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: