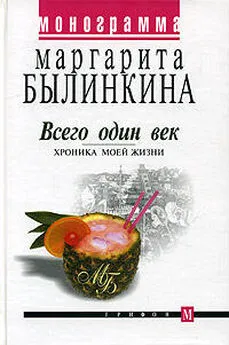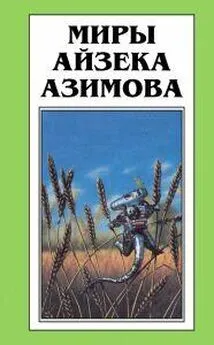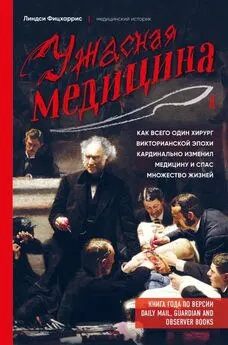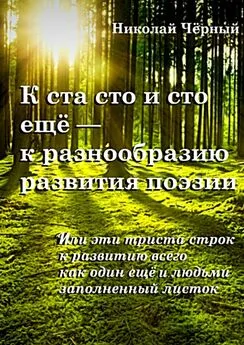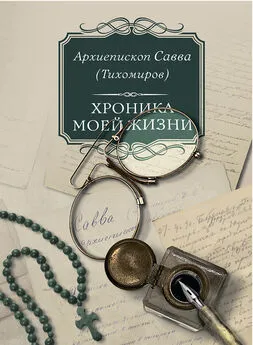Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни
- Название:Всего один век. Хроника моей жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Грифон
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-98862-019-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни краткое содержание
Маргарита Ивановна Былинкина — филолог, писатель и переводчик художественной литературы с испанского и немецкого языков. Она — автор перевода романа «Сто лет одиночества» классика мировой литературы Г. Гарсия Маркеса, а также многих других известных писателей, в том числе Х. Л. Борхеса и Х. Кортасара.
«Всего один век» — автобиографическая хроника, в которой автор слегка иронично и откровенно рассказывает о примечательных событиях из своей долгой жизни, о путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о конфликтах и преодолениях, о женской логике, любовных историях и многом другом.
Всего один век. Хроника моей жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Моя статья появилась в книжном обозрении «Экслибрис» НГ. 4.12.97 и называлась «Назад к мурашкам» (или топорные методы написания рецензий)». Приведу ее начало и конец.
«Когда в голову приходят светлые мысли, а душу посещает вдохновение, можно взять перо и написать стихи или даже рецензию. Когда же на сердце кошки скребут, а желчь готова вырваться наружу, можно взять в руки топор и. написать рецензию. Изделие получится довольно забавным, но грубым и сучковатым. В этом мне довелось убедиться, когда я прочитала в «НГ» от 21.08.97 под рубрикой «Инвективы» (по-русски — «бранные выпады») статью Анатолия Гелескула, которая претендует на всестороннее сравнение нового и старого вариантов перевода романа Габриеля Маркеса «Сто лет одиночества». Какой-либо профессиональной критики, которая вызвала бы у меня — как автора нового перевода — интерес, я, к сожалению, не нашла, но мне захотелось наглядно показать читателям, как сочиняются некоторые «рецензии».
<���…>
«Рецензия» Гелескула — приглашение к склоке, в которой я отнюдь не собираюсь участвовать: мои заметки имели целью лишь показать, как фабрикуются такие «топорные изделия», предназначенные для дезориентации читателей. Мне же подобные писания со всеми их фальсификациями и зряшными потугами не наносят ни морального, ни материального ущерба. Просто очень стыдно за некоторых «коллег». После прикосновения к «очагам инвектиции» хочется вымыть руки».
Такие нечистоплотные игры затеваются тогда, когда люди безмерно радуются словесной свободе и, выйдя на пенсию, имеют массу свободного времени. У меня на сей счет свой стих:
Сказал Сизифу Менелай:
«У нас судьба такая.
Тебе — работа, мене — лай».
Вот так и жил он, лая.
С тех лет роман Габриеля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», который можно назвать своеобразной энциклопедией любви и смысловым стержнем которого служит вечное противоборство Любви и Одиночества, был неоднократно издан в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Ростове-на-Дону. Массовыми изданиями и в сериях «Классики ХХ века», в мягких обложках и в золотом переплете. В 2005 году петербургская «Азбука» снова переиздала роман в твердой обложке, а московская «Олма» выпустила в свет подарочным изданием. Пожелание Маркеса: «чтобы эту книгу читали отцы, их дети и чтобы она не теряла интереса для внуков» — вроде бы сбывается.
На первый взгляд кажется, что человеческое Одиночество необоримо. Тем не менее мне представляется, что для автора понятие Одиночества равнозначно настоящей Свободе духа.
Год своего 70-летия — 1995-й — я отметила завершением еще одной, очень важной для меня вещи: документально-романтического коллажа о жизни великой испано-кубинки Гертрудис Гомес де Авельянеды, с которой меня познакомила в 1973 году на Кубе поэтесса Мирта Агирре. Летом 95-го в тихом домике на Истре я наконец возвратилась к своему давнему замыслу — жизнеописанию (с переводом ее любовных писем) замечательной писательницы, поэтессы и драматурга XIX века, которую совсем не знают в России.
Француженке Жорж Санд повезло больше: французская литература и язык получили широкое распространение в русском обществе девятнадцатого столетия. С Испанией было совсем иначе, хотя по величине таланта Гертрудис Авельянеда не уступает Авроре Дюдеван, а по диапазону жанров явно ее превосходит.
Да и в испанском мире Авельянеде нелегко было вырваться из рамок сугубо «женской литературы» и встать вровень с такими классиками, как драматург Соррилья или поэт Эспронседа. Ее творчество — семь романов, двадцать пьес и сборники лирики — явно заслуживает внимания.
Я отдала должное прозе Авельянеды, опубликовав в 90-м году роман «Гуатимоцин, последний император» (в переводе названный «Куаутемок, последний повелитель ацтеков ацтеков»). Однако меня больше привлекало ее литературное наследие не как таковое, а в прямой связи с ее бурной, полной страстей и событий жизни.
В основу жизнеописания Авельянеды я положила более сорока любовных писем, адресованных этой неординарной женщиной человеку, с которым ее разлучила судьба. Эти удивительные по силе чувств послания были случайно найдены в Испании в начале ХХ века и не раз издавались под названием «Дневник любви».
Мало-помалу между другими делами я с удовольствием работала над переводом эпистолярия. Мою работу неожиданно ускорило одно событие. Мне в руки попали другие письма Авельянеды, найденные, можно сказать, совсем недавно — в 75-м году ХХ века — и еще неизвестные ни литературоведам, ни публике. Письма, адресованные сорокалетней Авельянедой ее последнему возлюбленному.
Это эпистолярное сокровище мне привез из Мадрида мой коллега-испанист, добрый приятель Юрий Вениаминович Ванников, с которым мы в ту пору нередко виделись и беседовали по поводу и без повода.
Второй эпистолярий Авельянеды послужил большим стимулом в моей работе. Стал ясен весь ее жизненный путь и зигзагообразная линия ее переживаний, отраженных и в письмах, и в произведениях.
К 95-му году я перевела с испанского все 80 писем. Оставалось только (только!) вставить письма в рамку жизненных фактов, связать с конкретными людьми, понять ее отношения с ними и мотивы ее действий, найти взаимозависимость поступков и движений души.
Меня часто удивляла широта и нешаблонность мышления Авельянеды, ее принципиальность и цельность.
Приведу фрагменты одного из ее писем, где особенно четко выражается ее отношение к окружающей жизни и к любви.
«Мадрид, 25 апреля 1853 г.
Как раз сейчас получила твою записку и прочитала ее трижды. Оказывается, моя соперница — политика!.. Моя достойная соперница! Как ты мог такое написать? Знай, для меня политика не более чем грязная кокотка. Политика, — иными словами все то, что так называете вы, дети XIX века, вы, попусту упражняющие свой интеллект и губящие себя газом, дымом и камнем; политика, которую творите вы, «конституционные» мужи, приверженцы того, что вы именуете «представительным правлением», — все это противно нам, поэтам, нашей пылкой натуре, ибо мы не приемлем того, что по сути своей несовершенно и рахитично.
Мне понятен Людовик XIV или Прудон, но я не могу уяснить себе, что такое члены коалиционного правительства, что такое «монархические либералы», кто такие вы, называющие свободой немыслимую неразбериху? Я не скрываю, что у меня нет ни малейшего доверия, ни малейшего интереса к тому, что можно назвать социальными идеями.
Все правительства кажутся мне плохими, ибо все они созданы человеком и для человека, а человеческое общество, по-моему, не слишком способно к совершенствованию, не слишком достойно того, чтобы заботиться о его совершенстве.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: