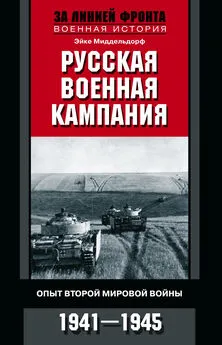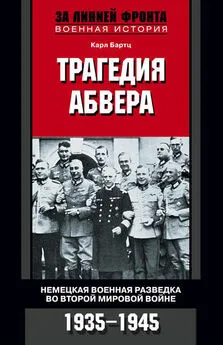Хэнсон Болдуин - Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны
- Название:Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-227-01482-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хэнсон Болдуин - Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны краткое содержание
Хэнсон Болдуин был в годы Второй мировой войны военным редактором газеты «Нью – Йорк тайме», сам участвовал в сражениях и собрал о них большой фактический материал. В книге рассказывается о малоизвестных русскому читателю сражениях за Крит, Коррехидор, Тараву, в заливе Лейте, а также о битвах за Сталинград и высадке союзников в Нормандии.
Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Германский рейх был ошеломлен и оцепенел в ожидании; презренные Untermensch («низшие люди») разгромили нацистских «сверхлюдей». Впервые в эти первые дни февраля немецкому народу стали очевидны полные масштабы катастрофы. Геринг намеренно выпячивал «славу» поражения, а немецкое радио вновь и вновь крутило «Похоронный марш» Зигфрида и «Ich hat' ein' Kamaraden» («У меня есть товарищи») [61]. Шок был болезненным, но эффективным. В будущем немцы сражались с отчаянием, а не с прошлой высокомерной самоуверенностью.
Вместе с Паулюсом в плен сдались 23 генерала, от 2 000 до 25 000 офицеров и почти 90 000 солдат регулярных немецких войск – все, что осталось от 6–й армии, некоторое число румын и неизвестное (возможно, от 30 000—40 000) – немецких служащих, а также русские пособники и гражданские жители. (Еще 17 000 пленных были пойманы русскими в период с 10–го по 29 января.)
Статистика Армагеддона никогда не будет полной, но, несмотря на это, она впечатляет. В середине октября силы 6–й армии насчитывали примерно 334 000 человек. Часть была отделена от основной группировки армии и направлена на запад для соединения с немецкими силами во время советского прорыва в середине ноября. 23 ноября Паулюс подсчитал, что силы 6–й армии в сталинградском «котле» насчитывали 220 000 человек. От 40 000 до 50 000 раненых и специалистов были эвакуированы из района Сталинграда по земле или по воздуху еще до начала осады или во время нее. Еще от 60 000 до 100 000 были убиты или умерли от болезней или голода и холода в Сталинграде и близ него, или были среди тысяч несчастных, которые мучились в так называемых медицинских бункерах в Сталинграде, когда настал конец. Жизнь многих этих раненых длилась недолго; одни из них были заживо погребены при взрывах в бункерах и подвалах во время победного наступления русских, другие нашли смерть от гранат или огнеметов при прочесывании русскими лабиринтов развалин.
Тем немцам, которые погибли в Сталинграде, вероятно, посчастливилось больше, чем тем, кто остался жив. В лагере для военнопленных в Бекетовке на Волге, немного севернее Сталинграда, тысячи немецких пленных, – по некоторым подсчетам, от 40 000 до 50 000, – погибли от голода, холода и лишений в первые недели плена. Тысячи других умерли в последующие годы. Жизнь на Восточном фронте ценилась дешево. Около 5 000—6 000 пережили долгую ночь плена и вернулись в Германию спустя несколько лет после войны [62].
Паулюс, которого Гитлер поносил за его неспособность выбрать смерть в руинах вместо жизни в плену, выжил и давал показания в Нюрнберге. Он предстал сморщенным человеком, несколько униженным, неуверенным, с пошатнувшимися представлениями о ценностях, с кажущимся смятением мыслей.
Фридрих Паулюс – тот, кого в молодости знали как красивого офицера, «господина», «сексуально привлекательного майора», – был центром Сталинградской битвы. От него и его решений зависела судьба армии. В чрезвычайно сочувственном описании Вальтера Герлитца он предстает очень скрупулезным человеком, замкнутым, почти интровертным, без чутья, опытным и зависимым штабным офицером, но имеющим мало опыта командования, методичным, неторопливым в принятии решений, но упорным, «винтиком в сильно функционализированной системе командования, полностью централизованного на Гитлере и контролируемого им». Паулюс был «усердным традиционным солдатом, который трижды взвешивал каждую деталь, прежде чем принять решение».
История проявит сочувствие к Паулюсу; он столкнулся с критическим для любого солдата конфликтом – конфликтом неповиновения. Он выбрал подчинение – как он сказал, в основном и отчасти потому, что не знал и не мог знать «общего положения». Но он избежал катастрофы, частично потому, что у него не хватило решительности и моральной смелости – главное, что требуется от великого командующего. Это был человек, который слепо повиновался авторитаризму, который оказался причиной ниспровержения Германии [63].
Для Германии после Сталинграда начался длинный путь отступления – в России, в Северной Африке, фактически в Западной Европе. В начале февраля 1943 года Клейст еще удерживал кубанский предмостовой плацдарм через Керченский пролив на Кавказе, но остальная часть немецкого Южного фронта, когда уже была оставлена мысль о «броске на Восток», отступила по окровавленному снегу до того места, откуда начиналось великое наступление на Кавказ, когда еще были велики летние надежды.
Это был «конец начала» для немецкой армии, которая уже знала, что Россия никогда не сдастся. И это было начало конца наступательной силы немецких военно – воздушных сил; как позже сказал Геринг, под Сталинградом и в Средиземном море в те кризисные месяцы 1942–1943 годов «погибла основа немецкой авиации бомбардировщиков». Многие бомбардировщики падали вниз в огненном разрушении, но не как орлы на свою жертву; они были вынуждены выполнять роль грузовых транспортов в тщетной попытке спасти 6–ю армию от гибели, чего нельзя отрицать.
Сталинград «стал поворотным пунктом в воздушном сражении на Восточном фронте».
«Когда во время битвы за Сталинград, – написал Ричард Лукас, – советские операции развернулись в крупном масштабе, становилось все более очевидно, что люфтваффе не могло противостоять силе советских военно – воздушных сил… С этого момента до конца войны советские вооруженные силы фактически беспрепятственно царили в воздухе на Восточном фронте» [64].
Для России Сталинград стал огромной, хотя и добытой дорогой ценой победой. Вероятно, советские потери никогда не будут точно известны; немцы могли их подсчитать, но их записи исчезли вместе с 6–й армией. Москва не составила надежную статистику потерь; тогда, как и сейчас, не было подробных записей о захоронениях; если солдаты не возвращались домой, их считали погибшими или без вести пропавшими. Можно догадываться, что советские потери во всей Сталинградской кампании составили от 400 000 до 600 000 человек (исключая Кавказ), а общие потери «Оси» составили, вероятно, 600 000 (исключая Кавказ).
Последствия Сталинграда имели огромное значение.
Как высказался Фуллер, «Сталинград был второй Полтавой, где Гитлер был архитектором собственного поражения, как Карл XII в 1709 году. В умах сотен миллионов московитов вспыхнул миф о советской непобедимости, который сделал из них турков Севера» [65].
Подъем морального духа русских сопровождался мгновенным падением духа немцев. Призрак поражения и угроза красного большевизма впервые заполнили их умы.
«Немецкий солдат очень не хотел идти на Восточный фронт» [66].
Но Сталинград стал «сигналом краха Гитлера… а не его причиной» [67].
За год до Сталинграда целые районы России (в частности, на Украине, стремящейся к свободе) приветствовали нацистские легионы возгласами и цветами как освободителей. Но презрение Гитлера ко всему негерманскому, и в частности, к «низшим людям» России, диктовало политику завоевания, а не освобождения, а завоеванные территории, вопреки протестам военных, попали под управление не военных, а жестокого варварства гауляйтеров. В марте 1941 года «порядок», провозглашенный Гитлером, привел к расстрелу всех пленных советских комиссаров. После этого в мае последовал указ, который с полной очевидностью лишал русских граждан на оккупированных территориях какой – либо возможности обращаться в военный суд; в нем также говорилось, что преступления, совершенные солдатами вермахта в отношении гражданских лиц, не обязательно должны стать предметом разбирательства военного трибунала. Такие указы, хотя и насаждались немецкими командирами более теоретически, чем фактически, соответствовали нежеланию Гитлера эффективно использовать в боевых действиях или для пропагандистских целей пленных советских солдат и его неспособности извлечь политическую выгоду из сепаратистских украинских амбиций. Действия партизан в немецком тылу, незначительные в 1941 году, стали беспокойными в 1942–м и угрожающими в 1943 году. Целые области, которые раньше приветствовали завоевателей, вскоре стали территориями, где царила огромная ненависть ко всему немецкому. Политика нацистов привела к неизбежной консолидации советской оппозиции, а коммунисты искусно использовали в своих интересах любовь крестьян к матушке – России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


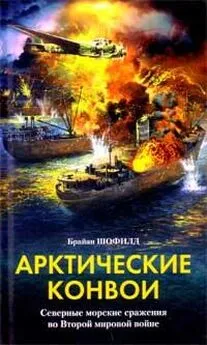
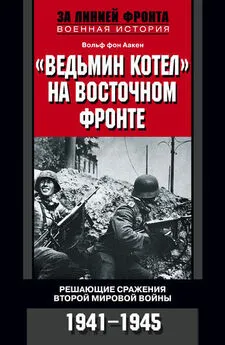

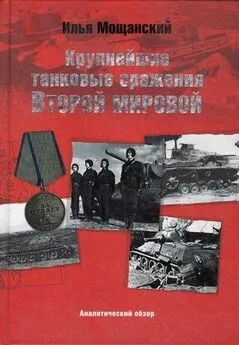
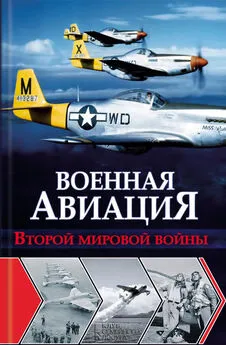
![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)