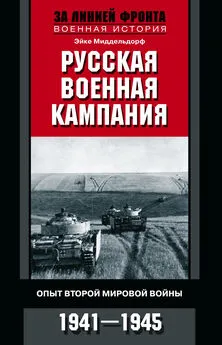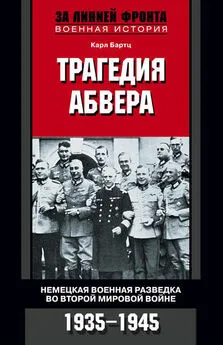Хэнсон Болдуин - Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны
- Название:Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-227-01482-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хэнсон Болдуин - Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны краткое содержание
Хэнсон Болдуин был в годы Второй мировой войны военным редактором газеты «Нью – Йорк тайме», сам участвовал в сражениях и собрал о них большой фактический материал. В книге рассказывается о малоизвестных русскому читателю сражениях за Крит, Коррехидор, Тараву, в заливе Лейте, а также о битвах за Сталинград и высадке союзников в Нормандии.
Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные кампании Второй мировой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К середине января сталинградский «котел» сжался до площади примерно 15 на 9 миль, причем позиции русских – предмостовые плацдармы на Волге – в некоторых местах вклинивались в немецкую цитадель. Снабжение по воздуху сокращалось из – за снежной стихии и шквального ветра, в то время как русские занимали аэродром за аэродромом, когда их линии фронта двигались и на восток, и на запад. 17 января был отвергнут второй ультиматум русских.
Во второй половине января, когда сильно напиравшие Советы раскалывали сталинградский «котел» надвое, группа армий «А» Клейста, отходящая с Кавказа, нашла убежище на плацдарме Таманского полуострова или достигла Дона и переправилась через него в районе Ростова – как раз вовремя, чтобы избежать катастрофы, так как наступление русских ширилось. Воронежский фронт Голикова в период с 13–го по 16 января нанес удар по оставшимся итальянцам (и захватил 17 000 человек), а затем прорвался через позиции венгерской 2–й армии и немецкой 2–й армии возле воронежской оси на Дону, ознаменовав начало побед. В течение нескольких дней весь Донской фронт немцев, мягко выражаясь, был «жидким»; на протяжении 200 миль между силами Манштейна у Ворошиловграда и Воронежем не стало устойчивого фронта. И все это время длинные морозные мили между окруженной и умирающей армией в Сталинграде и ее ближайшими союзниками за пределами окружения становились еще длиннее. Со всех сторон на 6–ю армию нападали части семи советских армий.
Попавшие в сталинградскую ловушку солдаты сгибались, ломались или умирали; каждый в одиночку переносил невыносимое. О сдаче не могло быть и речи – Гитлер давал это понять снова и снова. Паулюс со странным достоинством и молчаливым упорством повторял приказы Гитлера с тех дней, когда он вынужден был не повиноваться и прорываться из «котла» на встречу с Манштейном на юге.
«Для меня, – сказал он, – первым солдатским долгом является повиновение».
А приказы продолжали приходить: не сдаваться, сражаться до последнего, смерть в бою или самоубийство. Одни следовали приказам; другие не повиновались им, третьи – игнорировали. Некоторые командиры сдавались в плен сами со своими подразделениями, но большая часть 6–й армии просто растаяла, была снята, как мясо с обжаренного тела. С каждым днем потери выбивали из строя целые подразделения.
22 января был взят аэропорт Гумрак, а на следующий день потеряно последнее звено связи с внешним миром – Сталинградский аэропорт. Между сталинградским «котлом» и главным фронтом лежало 150–200 миль замерзшей опустошенной земли. Снабжение по воздуху составляло в среднем лишь 80–90 тонн грузов в день вместо 500–тонного минимума, который был необходим и который обещали.
И вновь 24 января Гитлеру было передано донесение:
«У солдат нет боеприпасов и продовольствия. Сохраняются контакты с частями лишь шести дивизий. Есть свидетельства поражений на Южном, Северном и Западном фронтах: 18 000 раненых без какого – либо снабжения, перевязочных материалов или медикаментов; 44–я, 76–я, 100–я, 305–я и 384–я пехотные дивизии разбиты. Фронт разорван в результате крупных прорывов с трех сторон. Укрепленные огневые точки и убежища сохранились только в самом городе, дальнейшая оборона не имеет смысла. Разгром неизбежен. Армия просит немедленного разрешения сдаться для того, чтобы сохранить жизнь оставшимся солдатам.
Подписано: Паулюс» [56].
Ответ был кратким:
«Капитуляция невозможна. 6–я армия будет выполнять свой исторический долг до последнего солдата, для того чтобы восстановить Восточный фронт» [57].
«…до последнего солдата…»
К 24 января, когда «котел» был расколот надвое, согласованная оборона стала невозможна. Немецкие артиллеристы стреляли последними пушечными и минометными снарядами и уничтожали свои пушки; несколько оставшихся грузовиков, в которых не было бензина, сожгли или искорежили. Румынская часть в массовом порядке с оружием и снаряжением дезертировала к русским. Сотни солдат пытались просочиться через окружение русских и начинали безнадежный путь по замерзшей опустошенной степи к немецким линиям, находившимся на расстоянии 200 миль. Один сержант добрался до них через несколько недель, чтобы умереть на фронтовом перевязочном пункте.
Когда закончился январь, сражение перестало быть контролируемым – только серия отдельных перестрелок: треск автоматов, взрывы гранат, яростная борьба за разбитое здание, борьба обреченных…
«Сражение затихало то здесь, то там, оплывало, как свеча, и исчезало» [58].
6–я армия отправила свое последнее донесение о безнадежном положении, когда оборона треснула на три части: «По подсчетам, сопротивление армии может окончательно прекратиться не позднее 1 февраля». Мир наблюдал за вагнеровским финалом, а Германия в ужасе проснулась от медленной смерти армии. В коммюнике верховного командования к концу января впервые намекалось на полную катастрофу, а бездеятельный Геринг в своей речи 30 января сравнил солдат в Сталинграде с защитниками Термопил.
Однако немцы сражались до самого конца, без надежды, малыми силами, но с тем же инстинктивным мастерством и рвением, которые сделали немецкие армии бичом современной Европы. 30 января, когда длительное сражение сошло на нет, 295–я пехотная дивизия контратаковала и вновь захватила квартал побитых зданий, только что оставленный русским [59].
31 января Паулюс, который считал, что первым долгом солдата является повиновение, сидел на своей койке в сильном потрясении с бледным лицом и остекленевшим взглядом. Он находился на своем последнем командном пункте глубоко под развалинами универсального магазина в мертвом городе, опустошенном четырьмя месяцами боев. Ему было присвоено звание фельдмаршала; на Паулюса и на его оставшихся в живых офицеров и солдат в последние часы дождем сыпались по радио блага далекого Гитлера: должности, награды…
Это были горестные апострофы к уничтожению и катастрофе, однако чувство формы, а не реальность трагедии преобладало в официальных ответах 6–й армии до самого конца.
«6–я армия, – передал по рации фельдмаршал, – верная своей присяге и осознающая высокое значение своей миссии, удерживала позиции до последнего солдата и последнего патрона во имя фюрера и фатерланда до самого конца».
В конце концов Паулюс отрекся от своих же приказов «не сдаваться» и предоставил разработку деталей капитуляции начальнику своего штаба [60].
31 января 1943 года штаб 6–й армии передал свое последнее сообщение:
«Русские стоят у двери нашего бункера. Мы ломаем наше оборудование».
А оператор добавил: «CL – эта станция больше передавать не будет».
Для окончательного поражения понадобилось еще несколько дней. Северный «котел», удерживаемый 11–м корпусом, был захвачен 2 февраля, и в тот же день пилот немецкого разведывательного самолета сообщил: «Признаков боевых действий в Сталинграде не наблюдается».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


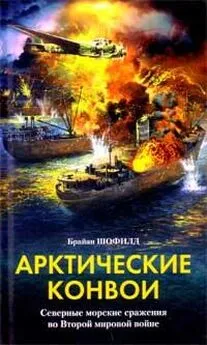
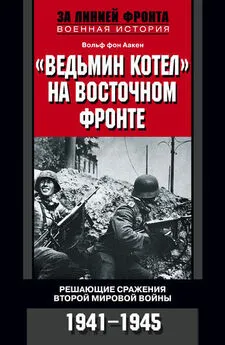

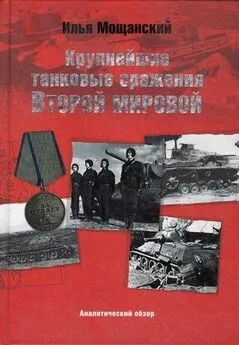
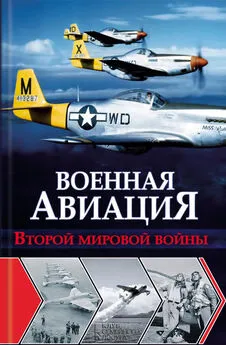
![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)