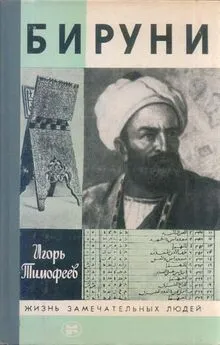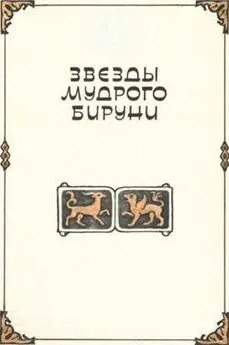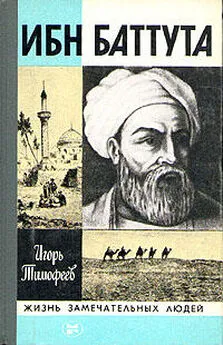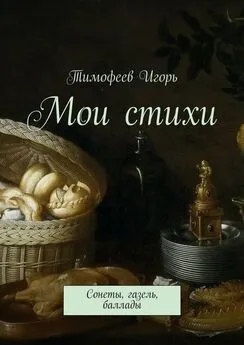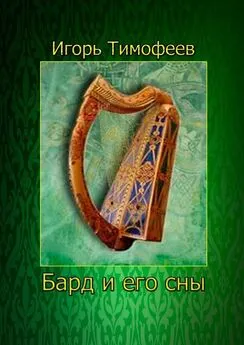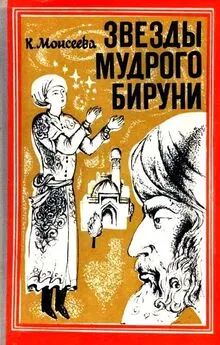Игорь Тимофеев - Бируни
- Название:Бируни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мол. гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Тимофеев - Бируни краткое содержание
Книга молодого советского литератора и историка И. Тимофеева посвящена одному из крупнейших ученых-энциклопедистов средневекового Востока, Абу-Рейхану Мухаммеду ибн Ахмеду аль-Бируни, жившему в X–XI веках нашей эры. Уроженец Хорезма, Бируни прожил нелегкую, полную драматических событий жизнь. Его перу принадлежат трактаты по математике и астрономии, физике и ботанике, географии и истории. След, оставленный Бируни в истории культуры народов, населяющих Среднеазиатские республики Советского Союза, поистине огромен, как и его влияние на мировую культуру в целом.
Бируни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это означало, что Хорезм стал независимым государством и отныне ни в чем уже не подчинялся воле Газны.
Отложение Хорезма пробило первую брешь в монолите могущественной империи, созданной Махмудом.
Ни удач, ни триумфов уже не случится — звезда Газны, прошедшая точку зенита, теперь будет опускаться все ниже и ниже, пока не сольется с горизонтом, и исчезнет за ним навсегда.
1034 год был отмечен двумя событиями. Одно из них, в сущности, не столь значительное, всколыхнуло газневидскую столицу, и о нем старики рассказывали внукам еще десять и даже двадцать лет спустя. Другое — мирового значения — прошло незамеченным, как это часто случается в истории, где справедливость восстанавливается спустя сто, а то и тысячу лет.
Осенью 1034 года Газна встречала посольство от кашгарских Караханидов, которое доставило в султанский дворец дочь Кадыр-хана, Шах-хатун, взятую в жены Масудом для закрепления союза двух мусульманских держав. «Несколько дней город находился в убранстве, — рассказывает летописец, — подданные ликовали, а знать устраивала разного рода игрища и пировала, покуда торжество не кончилось».
Той же осенью умер Ибн Ирак.
Он был единственным, кто в споре с Бируни позволял себе трясти у его носа сухонькими кулачками и потом дуться по нескольку дней, зная, что шестидесятилетний ученик первым явится на поклон. Профессиональные плакальщицы, нанятые за несколько фельсов, оглашали махаллю душераздирающими воплями, но Бируни ничего этого не слышал. С кладбища его вели под руки какие-то люди, что-то шептали в ухо, и он мотал головой, пытаясь стряхнуть повисший перед глазами туман. Дома его осторожно уложили на подушки, и он тотчас провалился в глубокий сон, а когда очнулся, тумана уже не было, ночные звуки воспринимались отчетливо, остро, и он лежал на спине с открытыми глазами, думая о том, что одна его жизнь уже кончилась, а другая еще не началась.
«К мечети было присоединено обширное медресе, помещение которого от пола до потолка было наполнено сочинениями выдающихся ученых по наукам людей древних и новых. Эти сочинения были вывезены из сокровищ царей как добыча, взятая от областей Ирака и местностей всех стран света».
Так описывает библиотеку основанного Махмудом духовного училища историк Абу Наср Утби, современник Бируни, служивший в одни годы с ним при султанском дворе. Наверняка они были знакомы и именно в этой библиотеке могли встречать друг друга, тем более что в течение многих лет Бируни наведывался туда едва ли не через день. Содержания, которое назначил ему Масуд, было теперь более чем достаточно для приобретения всего необходимого, но ведь нужные книги подбираются медленно, годами, а работа, задуманная им сразу же после возвращения из Хорезма, не позволяла промедлений.
Еще год назад попечитель библиотеки брал с Бируни залог за взятые на дом книги, недовольно ворчал, если с возвратом случалась задержка, и грозился, что станет ограничивать срок, а с недавних пор его, как, впрочем, и многих других, словно подменили — по утрам приветствовал у дверей, не переставая кланяться, пятился к полутемной сводчатой зале, куда тотчас сбегались фарраши с чирогами и, сдувая пыль, отваливали тяжелые крышки деревянных ларей.
Здесь хранились книги по всем отраслям знаний, но в последнее время Бируни сосредоточился на астрономии, и ему доставляло огромную радость, если среди знакомого и многократно читанного вдруг случалась находка, поражавшая необычным подходом к решению тех или иных задач. Теперь ему без всякого залога отпускал» десяток, а то и более книг — возвращаясь домой, он удобно устраивался на суффе в прохладном айване и погружался в чтение астрономических сочинений минувших веков.
Это было не ученическое проникновение в предмет, знакомый ему до мельчайших частностей, и не повторение пройденного, а попытка нащупать основные вехи в развитии «небесной механики», отсеять второстепенное и ошибочное, сделать необходимые уточнения и дополнить недостающее собственными решениями и методами, копившимися годами и проверенными на практике уже множество раз.
На мусульманском Востоке кинематическое описание движений небесных тел возникло и совершенствовалось главным образом под влиянием индийской и греческой традиций. Уже вслед за переводом на арабский язык первых сиддхант в научных центрах халифата появились сочинения особого жанра — зиджи, которые обычно состояли из небольшого теоретического введения и многочисленных календарных, тригонометрических, сферико-астрономических и географических таблиц, таблиц движения Солнца, Луны и планет, а также изложенных в словесной форме расчетных правил.
В этих зиджах, в большинстве своем относившихся к IX веку, Бируни без труда прослеживал влияние индийской астрономии, а в некоторых — влияние астрономических и астрологических трактатов сасанидского Ирана и даже следы линейных методов, созданных в Древнем Вавилоне. Однако уже со второй половины IX века на мусульманском Востоке стала преобладать греческая кинематическая традиция, что было связано с переводами птолемеевского «Альмагеста» и комментариев к нему, составленных в позднеэллинистическую эпоху Теоном Александрийским.
Отныне композиционное построение «Альмагеста» стало образцом для большинства создававшихся мусульманскими учеными зиджей, в том числе и тех, в которых преобладали идеи и методы индийской астрономии. Постепенно, по мере освоения и творческого развития греческих расчетных правил для вычисления положений небесных тел и кинематико-геометрических моделей их движений мусульманские ученые начали создавать зиджи на основе собственных астрономических наблюдений, обработанных с помощью принципиально новых методов и идеи.
Этот качественный перелом стал возможным благодаря созданию мощного математического аппарата — тригонометрических методов в астрономии и тригонометрии как самостоятельной науки. Одним из первых на мусульманском Востоке элементы тригонометрии попытался изложить великий земляк Бируни — Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми. Ему принадлежала самая ранняя попытка введения синуса в широкий научный оборот. В своем зидже, составленном во многом под влиянием индийской традиции, ал-Хорезми поместил таблицу синусов. Ознакомившись с этим зиджем еще в молодые годы, Бируни уже тогда отметил про себя весьма любопытное обстоятельство — само понятие синуса ал-Хорезми, несомненно, взял из индийской математики, но таблицу свою построил не через 3°45′, как это было принято в сиддхантах, а через 1° аргумента по принципу птолемеевской таблицы хорд.
Еще дальше продвинулся на этом пути коллега ал-Хорезми по багдадскому «Дому мудрости» Хабапг, который включил в свой зидж таблицы тангенсов и котангенсов, определенных на основе представлений индийской гномоники. Несмотря на новаторство ал-Хорезми, вытеснение птолемеевых хорд синусами произошло не сразу — Бируни попалось подряд несколько зиджей более позднего времени, где одновременно использовалось и то и другое. Еще медленней происходил переход от «теней» индийской гномоники к определению тригонометрических линий в круге. Первым, кто начал систематически применять в своих вычислениях тригонометрические линии, был арабский математик и астроном ал-Баттани. Правда, это касалось лишь синуса, синус-верзуса и косинуса, тогда как тангенс и котангес он согласно индийской традиции по-прежнему определял как «прямую» и «обращенную» тени гномона. Окончательное решение этой проблемы явилось несколько позднее, когда твердый сторонник эллинской и эллинистической традиций Ибн Юнис стал определять тангенс и котангенс как линии, не связанные с гномоникой, и полностью отказался в своем зидже от использования птолемеевых хорд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: