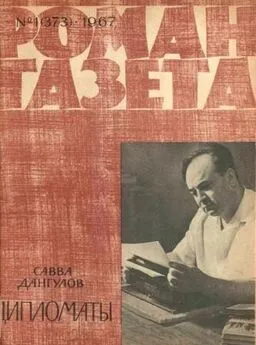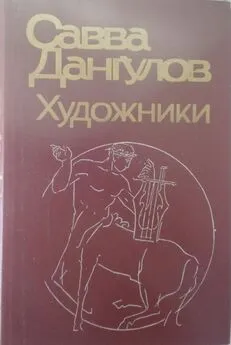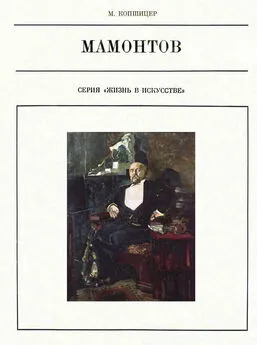Савва Дангулов - Кузнецкий мост
- Название:Кузнецкий мост
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТЕРРА-Книжный клуб
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-275-01290-Х, 5-275-01284-5, 5-275-01285-3, 5-275-01286-1, 5-275-01287-Х, 5-275-01288-8, 5-275-01289-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Савва Дангулов - Кузнецкий мост краткое содержание
Роман известного писателя и дипломата Саввы Дангулова «Кузнецкий мост» посвящен деятельности советской дипломатии в период Великой Отечественной войны.
В это сложное время судьба государств решалась не только на полях сражений, но и за столами дипломатических переговоров. Глубокий анализ внешнеполитической деятельности СССР в эти нелегкие для нашей страны годы, яркие зарисовки «дипломатических поединков» с новой стороны раскрывают подлинный смысл многих событий того времени. Особый драматизм и философскую насыщенность придает повествованию переплетение двух сюжетных линий — военной и дипломатической.
Действие первой книги романа Саввы Дангулова охватывает значительный период в истории войны и завершается битвой под Сталинградом.
Вторая книга романа повествует о деятельности советской дипломатии после Сталинградской битвы и завершается конференцией в Тегеране.
Третья книга возвращает читателя к событиям конца 1944 — середины 1945 года, времени окончательного разгрома гитлеровских войск и дипломатических переговоров о послевоенном переустройстве мира.
Кузнецкий мост - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь пришла очередь молчать Галуа.
— Но сомнение такого рода существует, и мне надо ответить на него, убедительно ответить… — сказал он, когда уже молчать было нельзя.
Казалось, теперь это понял и Толь.
— Ну, тут есть такое мнение, — начал он, и его лицо, только что такое неистово-рыжее, обрело и спокойные краски, и спокойное выражение. — Тут есть мнение… Ну, кое-кто считает — о степени участия финнов в блокаде надо судить по количеству снарядов, выпущенных по городу. Может быть, в иных условиях этот подсчет что-то и значил бы, но это же блокада, поймите, пожалуйста, блокада… Финны участвуют в осаде города, а следовательно, воздвигли часть стены, которая преградила Ленинграду путь к хлебу. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы отодвинуть границу от стен Ленинграда, это действительно было насущно…
— Вы полагаете, все, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к этому? — Галуа, прищурившись, всмотрелся в даль — ветер освободил воду от тумана, залив просматривался далеко.
— Именно прямое. Война не опровергла этой истины, она ее подтвердила…
Ну, разумеется, желая смягчить удар, Галуа мог сказать, что он корреспондент и говорит не столько от своего имени, сколько от имени тех смятенных и тревожно-колеблющихся, которых много в западном мире. Так мог сказать Галуа и так он говорил, но действовал он и от своего имени, а сомнения, высказанные им, были и его, Галуа, сомнениями. Тогда почему же младший Толь должен был наставлять Галуа на путь истинный? Это что же, извечная борьба поколений — мудрый юноша учит старца, впавшего в детство, — или нечто большее? Большее… это что? На одном берегу отец и сын Толи, а на другом Галуа, а между ними нечто бездонное?.. Почему бездонное, когда они люди одного корня?
— Вы… знаете Пузырева, директора Кировского завода? — вдруг спросил Галуа Толя.
— Знаю, разумеется…
— Вас свел завод? — спросил Галуа и заинтересованно заглянул в глаза Толю.
— Завод… это было потом, а вначале Ладога, — ответил Толь.
Галуа задумался: его замысел мог удаться.
— Не скрою, мы были на заводе и говорили о вас…
— Мне симпатичен Пузырев, — признался Толь с внезапной откровенностью.
— А не заглянуть ли нам сейчас к Пузыреву? — спросил, неожиданно посветлев, Галуа. — Ручаюсь, что ему будет приятно…
Толь склонил набок голову — такой прыти он не ожидал от Галуа:
— А удобно ли, вот так… неожиданно? Как он на это посмотрит, а?
— Кто нам запретит попробовать?.. — возразил Галуа. — Откажет — не обидимся, а если удастся? Нет, нет, вы только представьте, если удастся?.. Ну, сделайте это для меня! — просил он; разумеется, он уже видел встречу молодого Толя и Пузырева в своей будущей книге. — Николай Маркович, что вы молчите?.. Я прошу вас, наконец… Попробуем, а?
— Попробуем.
Через полчаса заводские ворота распахнулись перед Галуа и его спутниками, но Пузырев не вышел к гостям: немцы начали обстрел, и директор был в литейном. Галуа был смущен, да и Тамбиев с Толем смешались заметно. С настойчивой и методичной последовательностью ложились немецкие снаряды, ложились где-то совсем близко. Однажды даже было слышно, как высыпались стекла и повалил дым, повалил плотно, застлав окно так, что в кабинете смерклось, как при затмении солнца…
Они увидели его после отбоя. Его щетина в эти три дня отросла и точно заиндевела. Он невысоко поднял руку, улыбнувшись, как могло показаться — не столько потому, что у него было хорошо на душе, сколько по долгу хозяина.
— Рад, очень рад, — произнес он устало. — А к вам, Дмитрий Александрович, у меня даже есть дело: пришло время думать, как мы будем восстанавливать завод, что будем строить… — Он не без робости посмотрел в конец цеха, где рабочие торопливо забрасывали землей и шихтой воронку. — Вот так и живем, — произнес он, не отводя взгляда от воронки, сейчас откровенно горестного. Он уже решил, что эта воронка все сказала гостям, все, что он еще сказать не успел.
— Обошлось?.. — спросил Толь. — Обошлось… на этот раз? — повторил свой вопрос Дмитрий Александрович.
Пузырев дотянулся рукой до щетины, не погладил, а жестко ее смял.
— Помните Новгородову? Елизавету? — он обратил глаза на Галуа. — Ну, ту, что в дом отдыха не хотела?.. Ее очередь!.. Го-о-о… вот гак и живем, мать твою! — он выругался что было силы. — Простите, ради бога, — вновь посмотрел на Галуа, потом перевел глаза на Толя. — Хорошо, что еще не на льду живем… — он имел в виду ладожскую эпопею, — земля, как ни говори, попрочнее льда — не проваливается…
Тамбиев и Галуа оставались еще в Ленинграде одиннадцать дней и в такую же, как первый раз, полночь, точно размеченную ритмичными ударами артиллерийских орудий, покинули город, взяв курс на Хвойную…
— Ладога, — сказал Галуа и приник к иллюминатору. Да, самолет шел над озером. Догорала гроза, несильная, уже осенняя. Когда молния тревожила небо, видна была вода и под самым крылом тень самолета — не ровен час, самолет совместится с тенью, зарывшись в воду.
— Некуда спускаться, а такое впечатление, что никогда ты не был так высоко… — голос Галуа дрогнул, он наклонился — как ни темно было в самолете, он не хотел, чтобы Тамбиев видел его лицо. — Я не знал, что может быть… такая мера горя, — что-то спеклось у него в груди. Ленинградские дни собрались в комок и стали в горле, ему трудно было дышать. — Вы помните это… Котельническое всепрощение?
— Христофор Иванович?
— Не представишь Христофора Ивановича в Ленинграде, не так ли?
— Верно, но тогда непонятно иное, — возразил Тамбиев, возразил не без желания и ободрить, и раззадорить Галуа. — Что такое любовь к человеку?..
Галуа трудно поднял голову:
— История моих Толей — вот что такое любовь к человеку…
Самолет оторвался от воды, которая словно его держала, пошел все выше — озеро оставалось позади.
61
Наркоминдел распахнул двери прямо на Кузнецкий мост — открылся старый наркоминдельский клуб.
Лестница, отнюдь не обремененная мрамором и чугунным литьем, устремлялась на второй этаж, в зал с шестью окнами, выходящими на Кузнецкий… Зал невелик, но домовит в той мере, в какой милые детали его обстановки и сам он говорят о наркоминдельской истории… Следуя традиции, установленной еще в начале двадцатых годов, с трибуны этого зала выступали послы, как говорили в Наркоминделе, «прибывавшие на побывку». И темпераментный Красин, и малоречивый Штейн, и негромкий Трояновский, и весело-ироничный Карахан, и неизменно остроумный Литвинов, и Довгалевский, и Аросев, и Суриц…
И не только они: с трибуны наркоминдельского клуба любил разговаривать с дипломатами Чичерин. Он приходил в клуб, накинув на плечи демисезонное пальто с плюшевым воротником, и, сбросив его на ближайший стул, шел к трибуне, не забыв извлечь из жилетного кармана часы и положить их перед собой. В его манере говорить было нечто от века девятнадцатого: это была не речь, это была, как выражались в ту пору, конференция… Конференция была рассчитана на то, что оратора слушают. Поэтому Чичерин мог пройти и по авансцене, пододвинуть стул и опереться на сиденье коленом, вдруг остановиться перед наркоминдельским старожилом, сидящим в первом ряду, и произнести: «Петр Никифорович, вы должны помнить лучше меня: это было как раз в ту весну, когда наркомат прибыл в Москву и обосновался в итальянском особняке у Спиридонья?..» Он не любил гладких речей и как бы творил выступление, уточнял фразу и повторял ее в новой редакции, не стесняясь экскурсов чуть-чуть личных, вступал в диалог с залом, обращался к воспоминаниям, принимался читать стихи на латыни и греческом, чаще на немецком и французском, охотно и щедро обращался к русской классике, которую знал безупречно… Если бы рядом стояло пианино, он бы, говоря о музыке, не остановился перед тем, чтобы сесть за него и воочию, так сказать, воссоздать пассаж…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: