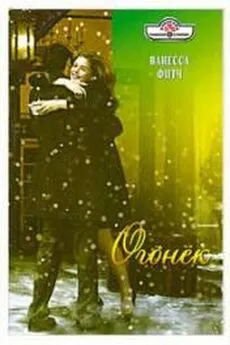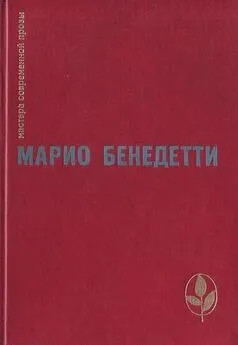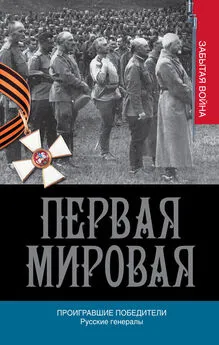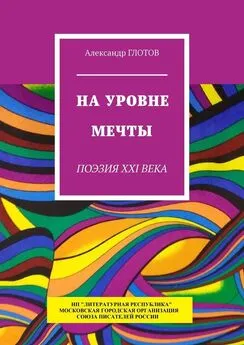Владимир Глотов - «Огонек»-nostalgia: проигравшие победители
- Название:«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:В. Глотов
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7281-0126-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Глотов - «Огонек»-nostalgia: проигравшие победители краткое содержание
Журнал «Огонек» в конце восьмидесятых, на изломе эпохи, читала едва ли не вся страна.
И вдруг, после небывалого взлета, — падение с головокружительной высоты. До ничтожного тиража. До раздражающей, обидной эмоции. Почему? Орган демократии не оправдал надежд? Демократия обанкротилась? Читатель озаботился иным интересом?
Так или иначе, свой столетний юбилей журнал отмечает не в лучшей форме. Поэтому не лишне задуматься: кем же он был, журнал «Огонек» — шутом, которому позволяли говорить правду, пророком, блудницей?
Отсюда и «Огонек»-nostalgia. Однако книга не только о некогда сверхпопулярной редакции
«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Завершался очерк просто, по-мужски. Куликов, видя смущение парня, выходил у меня из-за стола, брал из рук паренька его заявление и, скомкав его в кулаке, сжимал кулак до хруста. Я так и написал: «До хруста». До боли в пальцах. Таков был символ позора поколения детей. А благородные отцы? Куликов сказал рабочему просто: «Иди на кран».
Самое поразительное, что я не слишком приврал. Было, хоть отбавляй, охотников попасть в монтажные бригады — привлекал заработок. Такие заявления ложились на стол Куликова в большом количестве. И личная история не была выдумана. Тридцатые мне, и правда, представлялись временем достойным, «Архипелаг» Солженицына еще не был написан. Что же касается наивного антуража — таково было всеобщее увлечение.
Иногда я ввергал своих героев в настоящие приключения. Не умея разобраться в обыденной жизни, мы старались, как могли, украсить ее. В горах Кавказа, например, я уговорил начальника автобазы дать мне шофера с грузовиком, чтобы совершить рейс из Тбилиси в Кутаиси, — надо было подготовить для столичной газеты очерк о типичном грузинском комсомольце. Такого выделили — он подходил по всем статьям, был передовиком, национальным кадром. Никаких предосудительных поступков. Полная гарантия, что и в Грузии, и в Москве будут довольны. Но когда на пыльном дворе гаража резко затормозил новенький «Зил» и из кабины выпрыгнул толстячок лет под тридцать с лысой, как колено, головой, я чуть не упал. Какой же он комсомолец? Как такое лицо может появиться на странице журнала «Смена»? Но другого не предлагали — только этого! И мы поехали. И все было замечательно. И даже завернули к дедушке с бабушкой в горную деревеньку по пути, напились чачи, отоспались, потом снова пили и пели песни с половиной села, собравшейся в доме. А утром я снимал его на фоне грузовика. Снимал, закамуфлировав лысину бабушкиным вязаньем — получился лихой джигит с немыслимой конструкцией на голове.
Однажды мы уговорили машиниста грузового состава взять с собою в рейс своего юного племянника — нам надо было показать, как младшее поколение страстно желает следовать по стопам своих старших братьев. Конечно, и мы поехали в организованный нами рейс. Фотокор Петрухин отщелкал пленку, я за дорогу выспросил все, что мог, пытая угрюмого машиниста. Парнишка смотрел вперед и повторял по нашей просьбе: «Вижу зеленый!» — все, как положено по инструкции. Но нам показалось этого мало и мы попросили сбросить нас в живописном месте на границе Европы с Азией. Машинист оторопел, но согласился. Притормозил, и мы, не дожидаясь полной остановки, спрыгнули на насыпь — Петрухин со своей швейцарской камерой. Состав, вильнув змеиными сочленениями цистерн, ушел в сторону Златоуста, а мы остались в тишине, среди лета в Уральских горах. Как дети мы бегали с Сергеем, скакали, как горные козлы, по каменистым осыпям, все более удаляясь от железнодорожного полотна, постепенно забираясь все выше и выше, погружаясь в тень деревьев и выбираясь на скалистые открытые места. Мы потеряли ощущение времени. Перекусили. Сергей вдоволь наснимал живописных видов, проходящих далеко внизу составов. Наверное, мы иногда забегали в Европу, возвращались в Азию, и были счастливы, когда вдруг услышали надсадные гудки тепловоза. И поняли, что это гудит наш. Нас отделяло от него несколько сотен метров лесистого склона, крутых и опасных осыпей, то подъемов, то спусков — мы и дорогу-то забыли, каким образом забрались сюда. Не могло быть и речи, чтобы мы успели добежать до состава. А ждать он не мог. Строго говоря, он не имел права даже останавливаться. Это было и запрещено, и чревато неприятностями — тяжелый состав в горах не так-то просто стронуть с места. Все это мы усвоили, расспрашивая машиниста по пути сюда, не предполагая, что подобные детали коснуться нас лично. Мы замахали руками — давай, мол, езжай! Но машинист остановил поезд. Он стоял минут пять, но мы не в силах были добраться до полотна и за час. Поднатужившись, тепловоз стронул с места состав, и через две минуты мы оказались в полном одиночестве под сводами елей.
Мы спустились вниз и зашагали по шпалам навстречу накатывавшей с востока ночи. Порой стены сжимались и мы втягивались в узкие коридоры с нависавшими слева и справа глыбами гранита. Над головою мерцали звезды, а сзади начинала неприятно подрагивать земля — приближался состав. Тогда мы ускоряли шаг, надеясь проскочить узкое место. Измученные, мы вышли километров через десять к станции, где нас подобрала поездная бригада, предупрежденная нашим машинистом.
По мере обретения профессионального опыта и выработки собственной линии поведения, такое безобидное трюкачество трансформировалось в привычку к риску и нестандартным ситуациям. Когда из сельской школы мы получили — а я тогда работал в молодежном журнале — тревожное письмо, крик души сельского учителя, над которым форменным образом издевалось местное начальство — и над детьми, как он сообщал, — я не стал заезжать в областной центр, как было принято, отмечаться в Облоно, а потом в Роно, прихватывать с собою соглядатая в юбке под видом строгого инспектора, а без предупреждения заявился прямо в маленькую деревянную убогую школенку. Но для этого надо было пройти пешком десять километров по двадцатиградусному морозу — иных расстояний Россия не знает. Но зато сразу на бал! То есть в учительскую, где все как есть, без прикрас. Меня не ожидали. И даже вождь стоял на подоконнике, задвинутый лицом к окну, задернутый шторой. На белой лысине бюста заметны были следы чернил: дети забавлялись игрой в крестики-нолики.
Такое никогда не обнаружишь, если не истопчешь башмаками сельской дороги и не поставишь своих героев в обстоятельства в соответствии с замыслом.
Постепенно вырабатывалась странная привычка: даже тогда, когда я восхвалял, на мой «положительный» очерк приходил разъяренный отклик начальства. Однажды — дело было в «Комсомольской правде» — прислали «телегу» в ответ на публикацию «героического» очерка о комсорге со стройки в Азербайджане, — и я насчитал в ней семьдесят страниц документов, опровергавших мой материал. В ту пору еще не было заказной журналистики — если не считать таковой всю официозную партийную печать — не было и заказных убийств. Мы не испытывали страха, не оглядывались, не соизмеряли свои поступки с роковыми последствиями — все, что могло грозить за своеволие, так это отказ под благовидным предлогом в публикации. Безмятежное было время! Даже уволить журналиста не всегда было просто.
В этих «телегах» присутствовала, как правило, одна особенность. Все, кто сообщал мне в ходе расследования о злоупотреблениях своего мафиозного начальства, теперь с завидным единством утверждали прямо противоположное. Их «объяснительные записки» тут же прилагались. Я не сразу привык к таким разворотам на сто восемьдесят градусов трудового человека. Я все еще обожествлял его. Ругал судьбу, обстоятельства. Подверженный влиянию грубого социологизма, винил несовершенство общественного устройства. И был увлечен конструированием разумной системы управления — вот если этих поставить сюда, а тех туда, то получится замечательное общество. По машинописным листкам я изучал лекции по социологии, прочитанные Левадой на факультете журналистики в МГУ. Откровением были Гэлбрейт, Поршнев, Ян Щепаньский. Отдельная личность как бы перестала для меня существовать, она легко передвигалась, как фигурка на шахматной доске. И я силился найти для нее такое место, чтобы ей, униженной и оскорбленной обстоятельствами жизни, стало бы чуть легче.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: