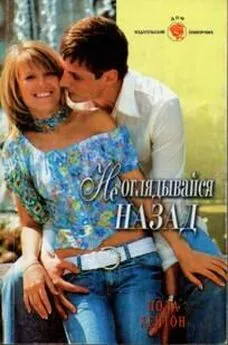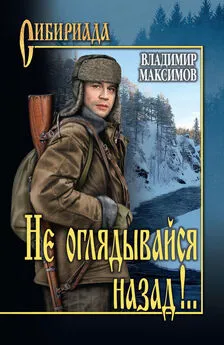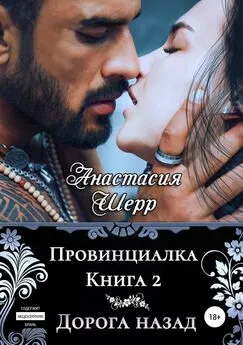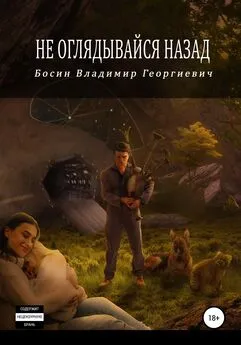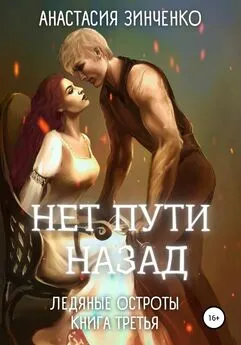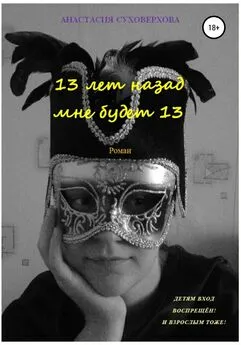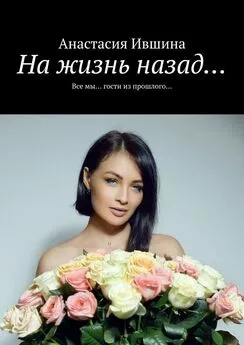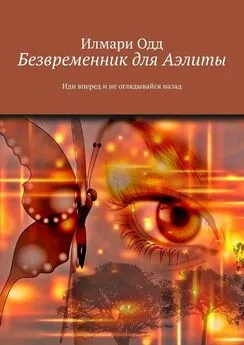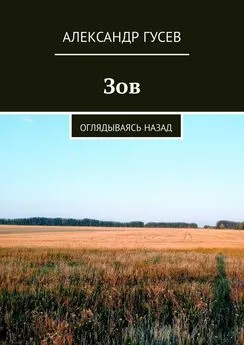Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
- Название:Оглядываясь назад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2001
- Город:Томск
- ISBN:5—7137—0187—5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад краткое содержание
Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Полпвановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа «Доктор Живаго». Диапазон книги очень широк: от характерных черт и деталей «немыслимого быта» до живо и нестандартно написанных портретов Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына, Л.З.Копелева
Оглядываясь назад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ту пору чаще покупали что-нибудь с рук, чем в магазинах. Рынки были завалены трофейными вещами, в первую очередь, тканями. Летом Москва запестрела цветастыми платьями из искусственного шелка. Эти покупки сопровождались бесчисленными слухами вроде того, что «…принесла домой, а на месте цветов — дыры». Когда мне исполнилось 16, мама решила, что нельзя же вечно ходить в обносках и донашивать шитое-перешитое старье, и купила тоже трофейный, но белый — он стоил дешевле, — как тогда говорили, отрез. Первое шелковое платье после войны мама сшила не себе, а мне, хотя я была девчонка, а мама еще вполне молодая женщина. И так всю жизнь.
Иногда в магазинах все же можно было достать относительно дешевые тряпочные босоножки или тапочки. — к ним относились так бережно, что, когда начинался дождь, все разувались и шлепали по лужам босиком.
Теплых вещей тоже очень не хватало, и когда в продаже стали появляться шерстяные кофты, они стали предметом всеобщего вожделения как женщин, так и девочек-подростков. Добыть их было трудно не только из-за нехватки денег. Как-то году в 48-м одна подружка подбила меня пойти в Мосторг (в отличие от Краснопресненского, Даниловского и других универмагов теперешний ЦУМ долго продолжал называться просто Мосторгом), где, как говорили, можно было выстоять кофты. Мы пришли в 5 утра (магазин открывался в семь) и встали в очередь, которая к этому времени уже плотным кольцом окружала магазин и прилегающий к нему сквер. Когда со звонком открылись. только с одной стороны, двери, очередь ринулась ко входу и дальше таким же аллюром по лестницам, насколько это позволяла давка, и все по большей части в отдел трикотажных вещей. Операция заняла у пас полдня, если не больше, но домой мы вернулись, прижимая к груди трофеи. В те же годы нередко мы с мамой сидели без копейки, так что не было даже на кино, хотя билет стоил рубль. А когда в 17 лет я захотела сшить юбку, мне пришлось продать коллекцию открыток, которую я долго и тщательно собирала, — метр хорошей шерстяной материи стоил триста рублей.
В 47-м отменили карточки и произвели денежную реформу. Слухи о ней распространились за несколько дней до того, как об этом было объявлено официально. Люди осаждали сберкассы, кто забирая, а кто, наоборот, мечтая положить на книжку имевшиеся деньги. Случалось, что сначала клали, а потом опять брали и наоборот. Магазины опустели, некоторые просто закрылись. Расхватали все, что только можно, вплоть до унитазов и зубоврачебных кресел; потом сами не знали, зачем купили, и что теперь со всем этим делать. Те, у кого деньги лежали в сберкассе, пострадали меньше, хотя и им была обменена не очень значительная сумма один к одному, а те, у кого деньги были дома, в кубышке, потеряли все. Нас с мамой, как и очень многих, это вообще не коснулось, сбережений ни на книжке, ни на руках не было.
Когда, уже в начале пятидесятых годов, я просила у мамы денег на капроновые чулки, две ее приятельницы в таких случаях любили повторять: «Мы в твои годы, во времена военного коммунизма, ходили в валенках». И сейчас, глядя на своих многочисленных внуков, которые в свои десять или восемь лет успевают сменить не одну пару часов, хотя их родители крутятся как белки в колесе, да просто на износ, чтобы заработать на жизнь, мне хочется им сказать: у меня первые часы появились в 20 лет, но, вовремя вспомнив про военный коммунизм, молчу и не говорю.
Всю войну и после войны у нас, да и не только у нас, — это было всеобщим бедствием обитателей верхних этажей, — протекала крыша. Весной с таяньем снега лило так, что половину комнаты мы заставляли тазами, тазиками, корытами и просто кастрюлями, а кровати и другие необходимые вещи отодвигали в дальний от окна конец комнаты. Потолок в конце концов не выдержал ежегодных наводнений и рухнул, как раз над маминым рабочим столом. Мама, по счастью, в этот момент разговаривала по телефону, иначе неизвестно, чем бы все кончилось, — слой штукатурки был толстенный, — ведь дом старый, да и обвалился кусок чуть не с четверть потолка. Мама и до этого, а теперь с удесятеренной энергией, обзванивала бесконечные рай- и мосжилотделы, обращалась к каким-то депутатам, но все безрезультатно. Наконец, отчаявшись чего-нибудь добиться, она написала, уж не знаю по чьему совету, тогда считали, что иногда это срабатывает, Сталину. Через неделю, если не раньше, крышу починили, но аккуратно только над нашей комнатой, а еще через несколько дней откуда-то позвонили и, не назвавшись, поинтересовались, починена ли крыша.
Летом 48-го года родные моей подруги пригласили меня вместе с ними в Коктебель. Я, разумеется, была на седьмом небе от такой перспективы. Коктебель в первые послевоенные годы совсем не походил на теперешний, да и на довоенный, каким я его смутно, но все-таки помнила по детским поездкам. На берегу стоял только волошинский дом, верх которого частично занимала его вдова, Мария Степановна. Нижняя часть и маленькие домики в парке принадлежали Литфонду и позднее стали именоваться Домом творчества. Все другие здания и корпуса домов отдыха на побережье перед нашим отступлением взорвали. Марья Степанна металась между Феодосией, Симферополем и Старым Крымом, хлопотала и умоляла не трогать дом. Спасло только чудо: в последней инстанции, где она обивала пороги, начальника срочно вызвали, больше он не вернулся, и дом просто не успели взорвать. В хлопотах, связанных с тем, чтобы и мастерская и часть комнат по-прежнему оставались в распоряжении М.С., ей помогал Павленко, бывший тогда влиятельным человеком в Крыму. М.С. рассказывала, что каждый раз, уходя от нее, он уволакивал под пиджаком кипы книг из волошинской библиотеки.
В парке росли только маслины, несколько акаций, дававших очень мало тени, да еще кусты туи и тамариска («…скупой посев айлантов и акаций в ограде тамарисков…». — Волошин). Ни кипарисов, ни сирени, ни иудина дерева, ни глициний, разведенных позднее, и в помине не было. На дорожках под ногами шуршали камушки. Отдыхающих в Литфонде насчитывалось не более 50 человек, а уж «диких», вроде нас, просто единицы. Кроме небольшого, с единственным тентом кусочка пляжа перед Литфондом, берег был совершенно пустынный. Вдоль побережья на определенном расстоянии друг от друга стояли пограничные посты. В деревню в единственный магазин «сельпо» иногда завозили хлеб или керосин, — тогда выстраивалась огромная очередь. Мальчик-продавец целыми днями читал «Графа Монтекристо», так как торговать было нечем. Все продукты, — мука, крупы, сахар, постное масло, — везлись из Москвы. На месте можно
 А.Баранович. 1946 г.
А.Баранович. 1946 г.
Интервал:
Закладка: