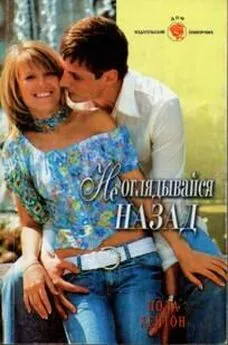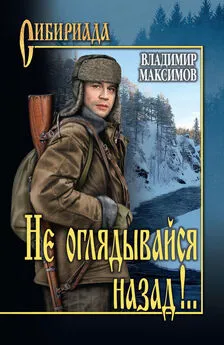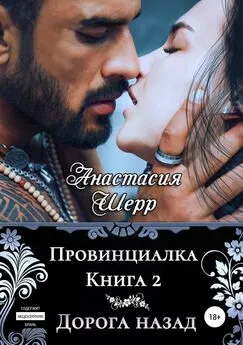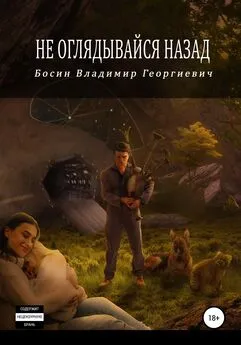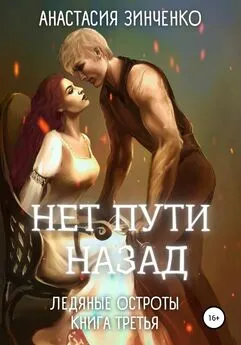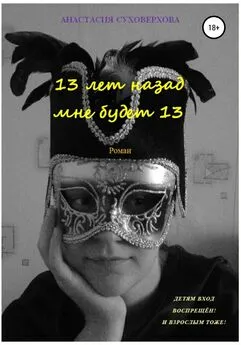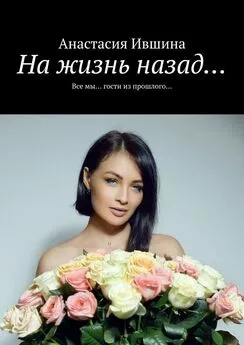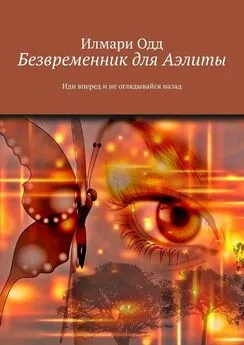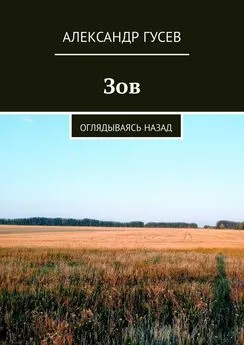Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
- Название:Оглядываясь назад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2001
- Город:Томск
- ISBN:5—7137—0187—5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад краткое содержание
Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Полпвановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа «Доктор Живаго». Диапазон книги очень широк: от характерных черт и деталей «немыслимого быта» до живо и нестандартно написанных портретов Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына, Л.З.Копелева
Оглядываясь назад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если у М.С. появлялись люди совсем иного стиля, что же говорить о поселке, Литфонде и хлынувших в Коктебель туристах. Все теперь рвались посмотреть дом поэта. М.С., порой не выдерживая слишком большого наплыва, то и дело просила кого-нибудь ее заменить. Несколько раз и мне доводилось водить экскурсии, показывать мастерскую, кабинет и рассказывать все то, что сама не однажды слышала от М.С. В доме еще звучали прежние коктебельские песенки, а обитатели Литфонда, давно уже именовавшегося Домом творчества, рифмовали Коктебель со словами, никогда прежде не оглашавшими и не тревожившими «окрестный окаем»: «На пляже Коктебля, свобода бля. свобода…» И, в общем, «нам становилось противно».
После длительного перерыва мы стали ездить туда на недельку или две в начале мая, впервые увидев склоны гор и холмов усыпанные тюльпанами, пионами, фиалками, горицветом и асфоделиями и услышав пение зябликов и соловьев и даже так не вяжущееся с представлением о юге ку-ку-, о чем раньше слышали от той же М.С. и чему не могли поверить.
Возвращаясь к лету 63-го, хочется еще добавить несколько слов. Скромный небольшой обелиск, поставленный сразу после войны на дорожке у самого пляжа, заменили огромным гранитным с барельефами, и верно, если уж «воскресать нам», то «одетым в гранит», в особенности таким, как высаженным практически безоружными десантникам, из которых не уцелел ни один, но все же он выглядел уж очень официальным и бездушным, несмотря на цветы, которые почти всегда лежали, вместо скромных букетиков, иногда из полыни, там у старого.
Сначала с мамой и сыном, а потом с внуками мы приезжали на улицу Десантников в общей сложности раз шестнадцать; я не сразу привыкла к ее названию, помня старое, но очень скоро почувствовала, что и обелиска, и улицы, названной в их честь, слишком мало, чтобы помнили, помнили, помнили об этих безымянных мучениках-героях, брошенных безоружными на заклание, и о тех, чьими телами устилали под танки минные поля, и миллионах и миллионах других.
До весеннего, как я уже говорила, мы узнали и полюбили пылающий по склонам гор всеми оттенками алого матраса осенний Коктебель, задерживаясь там в 58-м и 59-м чуть ли не до конца октября. В поселке — только местные жители, да и в Литфонде было пустовато. По вечерам в комнате, где спали мама с дочкой, приходилось топить печку. Уголь давала хозяйка, Александра Петровна Якутина, или тетя Саша, как ее все звали. Она была ровесницей М.С., помнила Волошина, и все друзья М.С., знавшие тетю Сашу с незапамятных времен, очень любили и ценили ее. Возвращаясь с прогулок, мы притаскивали охапки сухого валежника для растопки.
Одновременно с нами в первую осень там жили Копелевы, и тогда же Лев Зиновьевич познакомил нас со своим другом, И.А.Кривошеиным. одним из самых благородных и замечательных людей, с какими мне когда-либо приходилось встречаться. Участник французского сопротивления, арестованный гестапо и отсидевший в Бухенвальде, он после войны вернулся с семьей в Россию, где немедленно оказался в Гулаге.
По поводу этой волны реэмигрантов по Москве ходил анекдот. Одна дама из бывших, оставшаяся в России и уцелевшая, встречает вернувшихся из эмиграции родственников: «Ну, садитесь. дураки, рассказывайте, зачем приехали?»
Чуть ли не при первой же встрече мама огорошила его вопросом, в каком из лагерей было страшнее. Не будучи знаком с нами слишком близко, хотя знал от своего друга про маму, так же как и мы про него, он ответил уклончиво, но сама уклончивость была достаточно красноречива.
Мама и в тридцатые годы всегда говорила то, что думала, и спрашивала в лоб о самом существенном, главным образом, в кругу друзей, но и не только друзей. Находились такие, которые поначалу считали ее стукачкой, и только после более длительного знакомства становились откровеннее. И в куда менее важных случаях мама не признавала условностей, считая их мещанскими предрассудками. Не было в какой-то момент сил или денег на подарок, — мама шла на день рождения и без него, а в другой раз безо всякого повода могла отдать самое дорогое. Старшему сыну Пастернака она подарила беловую рукопись первой части романа, сама боготворя Б.Л. и обожая его летящий почерк, который называла «горделивыми птицами». А уж мне и моим детям она отдавала решительно все.
В последние годы жизни, кроме небольшой полки с книгами и фотографий (я не говорю о семейных) Сент-Экзюпери и Солженицына над кроватью, маленькой иконы Божьей Матери и еще Евангелия, всегда лежавшего на тумбочке, у нее почти ничего не было. А по поводу упомянутой фотографии А.И.Солженицын оказался прав, заявив, как уже говорилось, общим друзьям после первого знакомства с мамой: «Кажется я вытеснил из ее сердца Пастернака». Мы даже подсмеивались над такой самонадеянностью, хоть и отдавали должное его проницательности.
Следующей осенью, уезжая в Москву, мы увидели в Феодосии, прогуливающуюся по перрону Н.А.Обухову. Она никого не провожала, просто выходила вместе с подругой к московскому поезду, следуя, очевидно, еще дореволюционной традиции. Мама, немного знакомая с ней, окликнула ее; та подошла к нашему окну и разговорилась с мамой. Спросив у Надежды Андреевны разрешение, я принялась щелкать ее киноаппаратом. К сожалению, пленка оказалась уже заснятой, и после проявки Обухову едва можно было различить на фоне каких-то гор, и, что еще хуже, проносящихся машин. Так обидно, — мы все ее обожали; она, как всегда красивая, была в осенне-палевых тонах и долго махала нам вслед, а через год или два Надежды Андреевны не стало. Мои кадры были, наверное, последними из вообще немногих, запечатлевших ее. До середины пятидесятых она много лет живала в Коктебеле, сменив его в дальнейшем на Феодосию. Н.А. дружила с М.С. и порой по ее просьбе соглашалась попеть. В комнату, где она пела, аккомпанируя себе на рояле, допускались лишь самые близкие друзья старшего поколения, но на лестнице и возле дома собиралась целая толпа послушать звучавший «на неповторимых низах» голос Обуховой.
Мне хотелось бы немного рассказать об одном эстонском рыбачьем поселке на берегу Финского залива — Кясму, куда начиная с 65-го, мы ездили чуть ли не двадцать лет. В рыбачий он превратился только после войны; жители его состояли главным образом из убогих старух и нескольких рыбаков. До «освобождения» Эстонии там находилось морское училище, а в поселке жили капитаны и штурманы. Перед захватом Эстонии капитаны кораблей, стоявших у причала и подошедших с моря, не сходя на берег дали знать семьям, чтобы те все бросали и бежали к молу, дав им на сборы не более получаса. Через час все подняли якоря и ушли в Швецию. Остались только те, кому из-за старости или болезни не под силу было так сразу тронуться с места, да еще несколько подростков, в тот момент просто не оказавшихся дома. Стариков не тронули, а молодых немедленно отправили в лагерь. Среди них был и хозяин нашего дома.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: