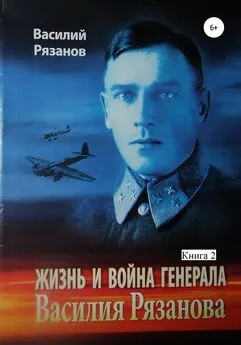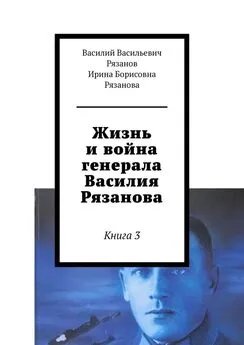Евгений Анисимов - Генерал Багратион. Жизнь и война
- Название:Генерал Багратион. Жизнь и война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03282-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Анисимов - Генерал Багратион. Жизнь и война краткое содержание
В пантеоне выдающихся полководцев нашего Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно из почетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый ученик Суворова, он был участником всех крупных войн своего времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны, полученной в Бородинском сражении, так и не пережив оставление Москвы. Его биография — это прежде всего история войн, которые вела Россия в конце XVIII — начале XIX века. Между тем личная, частная жизнь П. И. Багратиона известна совсем не так хорошо. Мы не знаем точно, когда он родился, как начал военную службу, которой отдал без остатка всю свою жизнь; немало загадок и в истории его взаимоотношений с царской семьей, особенно с великой княжной Екатериной Павловной, хотя именно здесь, как считают, таятся причины опалы, постигшей Багратиона незадолго до рокового 1812 года. О вехах жизни П. И. Багратиона — полководца и человека, а также об истории России его времени рассказывает в своей новой книге известный российский историк, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей» Евгений Викторович Анисимов.
Генерал Багратион. Жизнь и война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Упоминание в царском письме Суворова с намеком на то, что командующий 2-й армией оказался не лучшим учеником великого полководца, несомненно, больно зацепило самолюбивого Багратиона. Позже, уже на пути от Бобруйска к Могилеву, он как бы в ответ на прежний упрек государя сделал такую выразительную приписку к своему донесению: «Всемилостивейший государь! Удостойте принять справедливое мое удовлетворение, что быстрота маршей Второй армии, во все времена делаемых по самым песчаным дорогам и болотным местам, с теми тягостями, которые на себе ныне люди имеют, — и великий Суворов удивился бы. Шестьсот верст самого невыгоднейшего местоположения перейдены в 18 дней, имея чрез все почти время сильного на плечах неприятеля, всех больных, пленных и обозы, почти на 50 верст делавшие протяжение армии»23.
Теперь известно, что у Даву против Багратиона было действительно не менее 60 тысяч солдат, причем в момент перехода Немана 12 июня — даже более 60 тысяч (пять пехотных дивизий и корпусные кавалерия и артиллерия). По прибытии в Вильно корпус был отправлен на «охоту» за Багратионом. Но, как писал А. Коленкур, «император оставил маршалу Экмюльскому (Даву. — Е. А.) только часть его корпуса; 1-я, 2-я и 3-я дивизии, которыми командовали генералы Моран, Юден и Фриан, после переправы через Неман были отданы под начальство Неаполитанского короля (Мюрата. — Е. А.) для преследования неприятеля (то есть 1-й армии. — Е. А.) и поддержки кавалерии. У маршала оставались только дивизии Компана и Дезэ, причем половину дивизии Дезэ маршал должен был оставить в качестве обсервационного отряда в Минске». В итоге, пишет Коленкур, для борьбы с Багратионом Даву располагал силами «полутора дивизий»24.
Проверим эти данные. То, что 1-я, 2-я и 3-я дивизии действовали против армии Барклая, подтверждается и французскими, и русскими источниками25. Значит, в распоряжении Даву оставались 4-я и 5-я пехотные дивизии и еще кавалерия под командой бригадного генерала К. П. Пажоля. Итак, в «охоте» на Багратиона принимало участие менее половины корпуса Даву. Прибегнем к простому подсчету. Известно, что в 1-й, лучшей дивизии корпуса Даву, было 17 батальонов пехоты (13 тысяч человек). Стало быть, из общей массы его корпуса (85 батальонов или 61 тысяча человек) на долю 4-го и 5-го корпусов приходилось максимум 26 тысяч пехотинцев. К ним нужно прибавить еще две бригады Пажоля (не более 2,3 тысячи человек). Таким образом, уДаву (до прихода его в Минск) было около 28 тысяч человек.
Но Коленкур не упоминает, что войска Даву были усилены 3-м резервным кавалерийским корпусом и так называемым «Легионом Вислы» (польскими войсками). С ними у Даву под началом оказалось минимум 45 тысяч человек. Корпус вестфальского короля, тоже подчиненный Даву, имел в строю 19 тысяч человек. Следовательно, против Багратиона действовало всего 64 тысячи человек. 2-я Западная армия имела в строю 45 тысяч человек; кроме того, к ней были приписаны: корпус Платова (4 тысячи казаков) и отряд И. С. Дорохова (4 тысячи человек), всего 53 тысячи.
В принципе, не такое уж большое преимущество, чтобы Багратион панически боялся французов. Но можно допустить, что он, не имея точных сведений о силах противника, мог преувеличивать их численность. Кроме того, французы имели огромное стратегическое преимущество: оба их корпуса обладали инициативой, они действовали если и не согласованно, то на опережение, прочно отсекая Багратиона от 1-й армии и угрожая ему одновременно с флангов и с тыла, стремились зажать 2-ю армию в клещи. В этом смысле положение 2-й армии было во много раз хуже, чем положение 1-й армии, имевшей поначалу «чистый» тыл. Впереди армию Багратиона ждал Даву, а за спиной, в тылу, как темная туча, надвигался корпус Жерома Бонапарта. 26 июня части короля заняли Новогрудок, только что оставленный Багратионом, и далее корпус Жерома почти непрерывно «висел на хвосте» его армии, находясь в одном-двух переходах от ее арьергарда. Существовала реальная угроза, что, вступив в запланированный бой с Даву под Минском, сам Багратион подвергнется удару с тыла со стороны Жерома. А такого развития событий больше всего боялся каждый полководец. Недаром Багратион, упрекая командование 1-й армии в нежелании наступать, считал (между прочим — ошибочно), что у них есть неоспоримое преимущество: «У вас зад был чист и фланги»111. Ермолов, во всем поддерживавший и одобрявший Багратиона в 1812 году, в своих послевоенных мемуарах съязвил в адрес покойного друга: при отступлении от Волковыска ему якобы «изменила… всегдашняя его предприимчивость»27. Ермолов был несправедлив. Кажется, что как раз наоборот — свойственная Багратиону предприимчивость ему не изменила. Недаром в письме императору от 1 июля он сообщал: «Находя себя на каждом шагу в новом и столько же невыгодном положении и отовсюду окружаемый, я принужден нахожусь переменять также мои намерения»1*. Понимая грозившую ему опасность окружения, Багратион не скрывал, что в этой ситуации соотношение сил меняется в пользу противника и сама опасность окружения требует от него особой осторожности. В упомянутом выше письме Ермолову, написанном на марше от Слуцка к Бобруйску, он сообщал: «Я имею войска до 45 тысяч. Правда, пойду смело на 50 тысяч и более, но тогда, когда бы я был свободен, а как теперь, и на 10 тысяч не могу. Что день опоздаю, то я окружен»29.
Отступление Багратиона в целом оказалось успешным. Своими осмысленными маневрами он сумел избежать, по словам Клаузевица, «главнейшей катастрофы… — полного уничтожения армии». Трудно представить себе, что случилось бы, если бы 2-я Западная армия (треть всех русских сил) оказалась окружена противником, сдалась (как австрийцы под Ульмом) или была бы истреблена французами. Наверняка ход войны кардинальным образом изменился бы в пользу Наполеона. Но Багратион резким разворотом от Николаева на юг и движением на Слуцк и Бобруйск сумел вырваться из западни, ловко приготовленной ему Наполеоном.
В том, что это была именно западня, нет никаких сомнений. Наполеон в Вильно говорил, что «теперь Багратион с Барклаем уже более не увидятся»30. По одной из версий этого разговора Наполеона, приведенной министром полиции А. Д. Балашовым, которого 14 июня послал в Вильно Александр I, император французов сказал, что «ему дали дойти до Вильны и, чувствуя себя здесь хорошо, он здесь и останется, что армия князя Багратиона, несомненно, отрезана и погибла и что без боя он взял уже несколько тысяч солдат»31. И хотя последнее из сказанного Наполеоном было блефом, все же в целом он приоткрыл Балашову замысел операции, которую как раз в эти дни начали успешно осуществлять французы. Нет сомнений, что «охота на Багратиона» была задумана заранее, до начала вторжения. Прав был польский участник «охоты» в составе армии Понятовского К. И. Е. Колачковский, когда писал, что столь поздняя переправа армии Жерома (спустя шесть дней после переправы основных сил) «имела цель ввести в заблуждение Багратиона… в то время как корпус Даву быстрым переходом подвигался к Минску, чтобы отрезать Багратиона от 1-й русской армии Барклая»32. Именно поэтому у Багратиона долгое время была иллюзия, что за спиной у него все спокойно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: