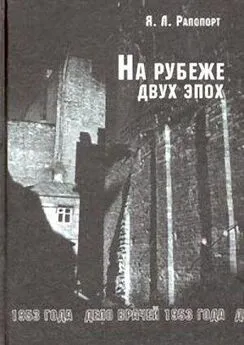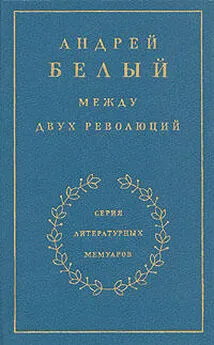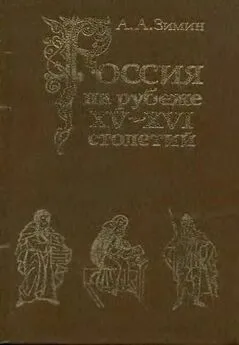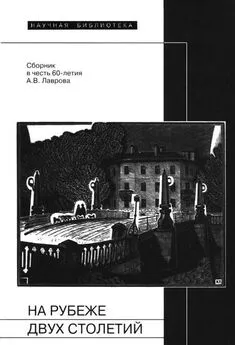Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
- Название:Книга 1. На рубеже двух столетий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00517-7, 5-280-00516-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий краткое содержание
Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880–1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. Большое место занимает в книге описание профессуры Московского университета начала XX века.
http://ruslit.traumlibrary.net
Книга 1. На рубеже двух столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ощутив вновь прилив странной мощи в себе, вместо того, чтоб сконфузиться, как обычно, впадая в азарт и ероша волосы, я заявил, что у Корсакова нет вовсе логики.
— Как так, дружок!
— А он утверждает, что — и так далее.
И, продолжая спор с Корсаковым, в первый раз круто я заперечил отцу, заперечил с наскоком; отец, забывая доводы, растерявшись, оглядывал меня с изумлением; вдруг рассмеялся, разведя руками:
— Скажите пожалуйста: ерошится и фыркает! Вероятно, он и во мне увидел бугаевский «перец». «Тихий» Боренька, став прегромким и пренесносным,
остановиться не мог; да и — проспорил: весь восьмой класс и все четыре года университетской жизни; на другой день, в гимназии, затеявши спор, он с потрясением пальца, с морщением бровей проповедовал… символизм: туманно, но вдохновенно, обрушивая на голову сбежавшегося класса потоки имен и цитат; старичок-надзиратель, привыкший к «тихому» воспитаннику, хотел было крикнуть:
— Тише, Бугаев!
Но встретившись с его взглядом, опустил голову и прошел мимо.
Класс фыркнул; скоро недоумение оборвало смех; у меня оказались сторонники (Владимиров, Янчин); я разгромил Писарева, Макса Нордау; я выдвинул лозунги.
— Чудак!
Так разводили руками.
— Декадент, — сказали потом: с удивлением, со страхом, не без почтения; открылось: что декадент-то — «философ».
Явились и перебежчики из лагеря презиравших; они подчеркивали теперь мне свое почтение; утвердилась вполне репутация «теоретика символизма» и классного «Петрония» (законодателя вкусов) 197 после вопроса, поставленного учителем Вельским:
— Бугаев, ведь вы и Канта читали?
— Читал, — ответил я не без гордости.
Вопрос был поставлен при отдаче классного экспромта на тему: «Природа и поэт». Прорвавшийся наружу поток слов и мыслей уже в берега не вмещался; недавно писал Поливанову сочинения лишь стилистические, убирая все мысли: писал так, как «надо писать» воспитаннику; но Поливанов, к великому горю, отказался от класса, преподавая лишь в нескольких (он заболел); новый учитель, Вельский, стал нам задавать классные экспромты; не сдерживаемый пиететом, привыкший уже проповедовать классу, я в данном экспромте уже проповедовал Вельскому символизм, сведя тему экспромта к проблеме созерцания идей в явлениях и запутавшись в определениях соотношения формы и содержания в родовых и видовых идеях, доказывая, что обычно принимаемое обратное отношение между объемом и содержанием в эстетическом мышлении переходит в прямое. Часовой «экспромт» разрастался в моей голове в философский трактат, введенье к которому даже не успел я закончить (ни о «природе», ни о «поэте» — ни звука!).
Вельский был изумлен: передавая мне сочинение, он говорил:
— Я едва разобрался в ходе мысли у вас: будем надеяться, что вы сами бы разобрались в нем, если бы довели до конца сочинение.
Все же поставил мне «пять».
Товарищи глядели на меня с почтением; Павляковский — покашивался с боязнью:
— Не представляйтесь таким легкомысленным: вы не то, чем показываете себя, — пробуркал он в ответ на какой-то мой «гаф».
Вельский же рассказал в учительской о случае с сочинением и о том, что читаю я Канта.
Конец гимназии — мой идейный триумф; «бронированный кулак», символизм держит в повиновении иных из товарищей; «сливки общества» любезничают; «папуасы» — испуганно уступают дорогу; «тройка» (Владимиров, Янчин, я) — представительница «высших интересов»; они же — интересы символизма 198 .
Тут умирает Поливанов; 199 его смерть — удар; новый директор, сын Л. И., Иван Львович, вступает в директорствование весьма скромно и весьма тактично: с нами, кончающими и не знавшими его как учителя, держится он скорей старшим товарищем и умеет внушить доверие и уважение за несколько последних месяцев нашей гимназической жизни.
Они мне окрашены сердечным отношением при идейных спорах с шестиклассником, Володей Иковым, убежденным марксистом, участвующим в нелегальных кружках (он позднее писал под псевдонимом «Миров» 200 ).
Выпускной экзамен проходит удачно; 201 подаю прошение в университет 202 ; я — студент.
И — отсюда мораль: не надо вить веревок из неокрепших сознаний; детство, отрочество и юность мои являют пример того, что получится из ребенка, которому проповедуют Дарвина, Спенсера, нумерацию в великой надежде: сформировать математика.
Оказывается: выдавливается не математик, а… символист; так славные традиции Льюиса и Бокля приложили реально руку к бурному формированию московского символизма в недрах позитивизма; у меня отобрали книги по искусству и заменили их «своим» чтением; и этим выдавили лишь мощный протест (мощность — от немоты моей!) какою угодно ценою, даже ценою подлога, сорвать с себя искусственную заклепку из Спенсера; я показывал язычок Шопенгауэром и прочею «мистикой»: с шестого класса гимназии.
Одинаковое явление происходило в те годы с ближайшими спутниками, которых я в 1899 году вовсе не знал: например, с Эллисом, Метнером, в то время студентом; этот будущий западник, насквозь гетист, насквозь отрицатель «русского духа», из протеста против обязательного западничества в оформлении Янжулов и Ко педалировал немодным славянофильством, утверждая Аполлона Григорьевича и Константина Леонтьева; мой первый университетский товарищ, А. С. Петровский, с детства окуриваемый религией, стал скептиком, изучающим материализм, и химиком в тот же период; и в те же дни гимназист Кобылинский, воспитываемый на любви к слову и к классикам, старательно изучал Карла Маркса.
Но «химик» Петровский, «марксист» Кобылинский, «славянофил» Метнер и «символист» Бугаев, тем не менее, через несколько лет оказались в том же товарищеском кругу; основное, что создало возможность к общему языку, — дух протеста против вчерашнего дня.
Глава пятая
Университет
1. Проблема ножниц
Мне остается пробег по темам «рубежа»; и зарисовка последних двадцати месяцев жизни в девятнадцатом веке; в этот срок подчеркнулся рубеж в личной жизни; социально подчеркивался он за последнее четырехлетие старого века растущей тревогою: таяло прежнее отроческое представление о России, Европе, державшееся до 1894–1895 годов, или конца царствования Александра Третьего; мысль о том, что мы вышли из полосы исторических кризисов, в отрочестве изживала себя в двух представлениях: в консервативном и в либеральном; консерваторы представляли Россию отверженной на вековечные времена; либералы же, вливая Россию в Европу, видели благополучие ее эволюции, в результате которой встречались приятнейшие волки и овцы; России для этого благополучия нужна была, по их мнению, ничтожнейшая операция, о которой озаботится Тверское земство; конституция будет старанием этого земства дана или вырвется рукой Петрункевича; 1 что значит малюсенький вырывательный шок, коль за ним — тысячелетия роста гуманности: один пограничный шлахтбаум; и покатилась история по шоссе!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: