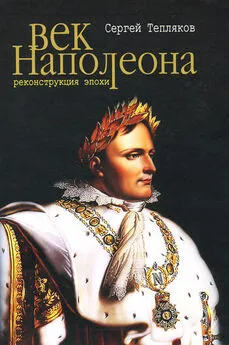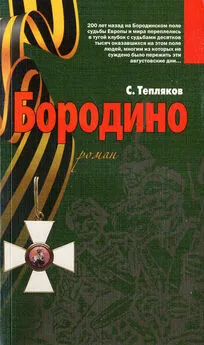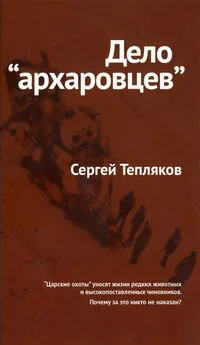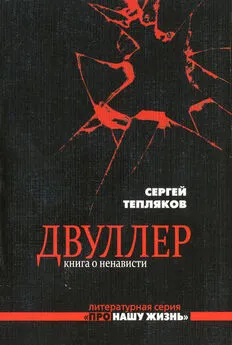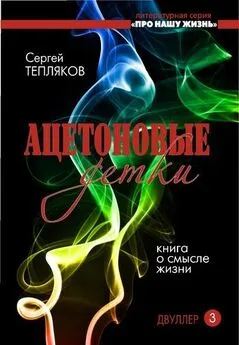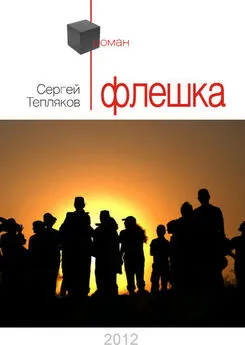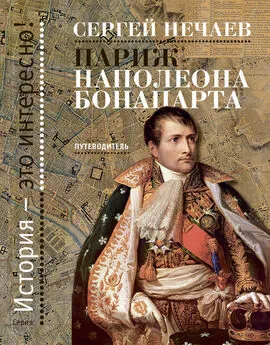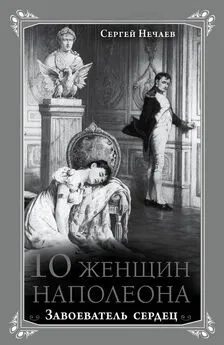Сергей Тепляков - Век Наполеона. Реконструкция эпохи
- Название:Век Наполеона. Реконструкция эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОАО «ИПП «Алтай»
- Год:2011
- Город:Барнаул
- ISBN:978-5-88449-238-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Тепляков - Век Наполеона. Реконструкция эпохи краткое содержание
«Век Наполеона» – это первая книга о наполеоновской эпохе «в формате 3D». Она является «волшебными очками», при взгляде через которые события, вещи, люди и их поступки приобретают объем. Само пространство эпохи впервые стало многомерным. Книга позволяет разглядеть крупное до мелочей, а мелкое – во всех подробностях.
В книге многое написано впервые: например, последовательно прослежена история французской оккупации Москвы; проанализирован феномен народной войны в наполеоновскую эпоху – не только в России, но и в Испании, Финляндии, Тироле, Пруссии; рассмотрены вопросы тогдашней военной медицины.
Рассказано о бытовой жизни на войне – в походе, в бою в плену. Биографические очерки об английском премьер-министре Уильяме Питте-младшем и английском короле Георге Третьем (вдохновители первых антинаполеоновских коалиций) также первые в российской наполеонистике. Рассмотрена и тема противостояния Наполеона и Церкви (скорее даже Наполеона и Бога), которая как минимум с 1917 года по понятным причинам российскими историками не анализировалась и во внимание не принималась. Очень много внимания уделено частной жизни людей того времени – их образованности, нравственным опорам, устремлениям и целям.
Век Наполеона. Реконструкция эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дворянские и чиновные семьи как могли выражали патриотизм: решив не говорить по-французски, многие перешли на русский, который если и знали, то крайне плохо (поэтому в городе резко выросла потребность в преподавателях русского языка). За разговоры по-французски в обществе взимали штрафы.
В то время в Москве выходили газета «Московские ведомости» (последний ее номер был выпущен 31 августа) и журнал «Русский вестник», издававшийся известным в городе журналистом Сергеем Глинкой. Кроме газет, знатные господа узнавали новости и слухи в Английском клубе: Николай Карамзин говорил, что «надобно ехать в Английский клуб, чтобы узнать общее мнение».
Для простого народа в типографии возле Казанского собора печатались листовки и вывешивались прямо тут же, на стене. Самые нетерпеливые ждали их прямо возле собора, так что в конце концов здесь сформировался целый «дискуссионный клуб». Здесь же вывешивали лубки – картинки с изображением мужика Долбилы и ратника Гвоздилы, крушивших французов. Правда, последних известий в них было мало, а того, во что могли поверить читатели – еще меньше. Власти говорили горожанам о войне скудно и неохотно, известно было только, что обе армии отступают, отыскивая удобное место для большого сражения. Зато вовсю делалось то, что сейчас назвали бы «формированием общественного мнения».
1 июля вышла афишка про московского мещанина Карнюшку Чихирина, который, выпив, говорил о Бонапарте и его войске так: «Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди-тко лучше дома да играй в жмурки либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: ведь солдаты-то твои карлики да щегольки; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят». Это была первая из «афишек» Ростопчина, но в отличие от остальных она еще не имела названия «Дружеские послания от Главнокомандующего в Москве к жителям ее».
Вяземский пишет об афишках: «Жуковскому они нравились; Карамзин читал их с некоторым смущением». Вполне объяснимо, что эффект от афишек нередко был прямо противоположный ожидавшемуся. «Афишки московского градоначальника графа Ростопчина выводили всех из терпения деревенским сказочным стилем, – писал 23-летний ростовчанин Михаил Маракуев, выехавший летом 1812 года в Харьков на ярмарку и оттуда наблюдавший за великими событиями по тогдашним газетам и разговорам. – Неудачные эти выдумки его вызывали презрение, а чернь неизвестно за что питала к нему величайшую ненависть».
Афишка от 3 июля была посвящена делу Верещагина. Дореволюционный литератор Федор Мускатблит в своей статье «Москва в 1812 году» упоминает кофейню турка Федора Андреева, куда ходили читать иностранные газеты образованные москвичи, в числе которых был 22-летний купеческий сын Михаил Верещагин – тот самый, которому это чтение стоило жизни. Верещагин хорошо знал немецкий и французский. Он перевел своему приятелю, частному поверенному (адвокату) Павлу Мешкову, речь Наполеона к князьям Рейнского союза, которую тот произнес перед походом в Россию, и письмо Наполеона к прусскому королю Фридриху Вильгельму. В первом было сказано: «не пройдет и шести месяцев, как две северные столицы узрят в своих стенах победителей всего мира», во втором про Россию не говорилось вообще ничего. Мешков записал тексты и показал их некоему Смирнову, у которого снимал жилье, а возможно, и не только ему – у Толстого в «Войне и мире» упоминается, что для выхода на Верещагина полиции пришлось «размотать цепочку» из 63 человек. Верещагин и Мешков «загремели» в «Яму» – так называлась московская временная тюрьма. Делом Верещагина занимался следственный пристав Яковлев, чьим именем тогда пугали детей. Федор Мускатблит пишет, что «этот сыщик бил допрашиваемых смертным боем, от которого несчастные нередко умирали тут же или, в лучшем случае, оставались калеками на всю жизнь». Неудивительно, что Верещагин почти сразу признал себя виноватым (Мешкова как дворянина пытать было нельзя). При этом, правда, Верещагин всю вину взял на себя. 3 июля появилась афишка Ростопчина о «дерзких бумагах», причем, Верещагин был назван их сочинителем.
Московский магистрат приговорил Верещагина к лишению доброго имени и бессрочным работам в Нерчинске, к которым московский Сенат, утвердивший приговор 19 августа, прибавил по предложению Ростопчина еще 25 ударов плетью. Мешков был лишен чина, дворянства и отдан в солдаты. (При этом Ростопчин очень хотел Верещагина для острастки другим казнить и даже отправил прошение об этом царю, но тот промолчал).
Воспользовавшись этим же делом, Ростопчин выслал из Москвы почтдиректора Федора Ключарева, сын которого передавал Верещагину иностранные газеты, и Николая Новикова, вся вина которого состояла в общем-то лишь в том, что еще при Екатерине он издавал вольнодумный журнал «Трутень» и размышлял об отмене крепостного права. Ростопчин «чистил» город от всех, кто мог думать «не то» и «не так». К тому же Ключарев и Новиков были мартинисты (члены основанной в XVIII веке Мартинесом де Паскуалли секты считали себя людьми, которые способны видеть сверхъестественные видения, визионерами, а одним из пунктов их политической программы было право человека жить в свободном государстве) – Ростопчин видел в них «пятую колонну» и, например, даже просил Александра Первого не присылать писем через московский почтамт. Дополнительные опасения, надо думать, внушало ему и то, что Ключарев был вольноотпущенный крестьянин. (Ростопчин многих считал мартинистами: когда поэт Жуковский решил вступить в ополчение, Карамзин, полагая, что солдат из него никакой, просил Ростопчина прикомандировать поэта к себе. Граф отказал, заявив, что Жуковский заражен якобинскими мыслями).
Хотя история с Верещагиным, Мешковым и другими несчастными должна была стать показательной поркой в прямом и переносном смыслах, но, как пишет Федор Мускатблит, «Москва интересовалась этим делом мало»: 10 июля было обнародовано воззвание к Москве царя Александра, и стало известно, что он сам приедет в древнюю столицу. 11 июля колоссальная толпа двинулась на Поклонную гору – встречать императора. «Все намеревались выпрячь лошадей из царской коляски и на плечах нести ее прямо в Кремль», – пишет Мускатблит. Царь, чтобы избежать торжественной встречи, затянул с приездом и появился у Поклонной горы только поздним вечером. После полуночи 12 июля он был в Кремле, который к утру до отказа заполнили толпы москвичей. Из Успенского собора Александр Первый шел под перезвон колоколов, «сомкнутый в живом кольце густой массы». Когда свита попыталась расчистить ему путь, царь сказал: «Не троньте их! Я пройду». Народ кричал ему: «Дай насмотреться на тебя!», «Веди нас куда хочешь!», «Умрем или победим!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: