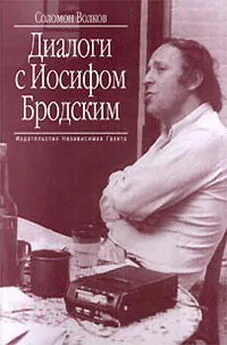Соломон Волков - Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным
- Название:Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Независимая Газета
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86712-092-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Волков - Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным краткое содержание
Страсти по Чайковскому» — еще одно произведение в жанре «разговоров» Соломона Волкова, известного музыковеда и культуролога. Русским читателям уже знакомы его «Диалоги с Иосифом Бродским» и «История культуры Санкт-Петербурга». В «Страстях по Чайковскому», впервые выходящих на русском языке, дан необычный портрет Чайковского сквозь призму восприятия великого хореографа Джорджа Баланчина. Одновременно книга является уникальным автопортретом самого Баланчина, раскрывающего читателю неповторимый сокровенный мир музыки.
Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дети всегда в восторге от сцены сражения Щелкунчика с мышами. Чайковский очень боялся мышей. Я их не боюсь. Правда, я, наверное, видел больше мышей на сцене, чем в жизни. Считается, что мыши злые. Гофман описал мышей как коварных и мстительных. Я не думаю, что мыши злые, но они, видимо, людям неприятны. Когда меня взяли в балетную школу и остригли наголо, то другие дети называли меня «Крыса», но недолго. Александр Грин написал рассказ «Крысолов»; он нафантазировал, будто после революции крысы завладели Петербургом. Пустынный, брошенный город, а по нему бегают злые крысы, волшебством превращенные в маленьких хулиганов. Это правда, в Петербурге тогда таких беспризорных были тысячи и тысячи. Они могли ограбить, убить. Их все боялись. А я их не боялся. Я сам был небольшого роста, молодой. Все тогда боялись ходить ночью по улицам, а я нет.
Мы, балетные, более храбрые люди, чем это принято думать. Помню, мне петербургский эрудит Соллертинский рассказывал историю. Он был влюблен в одну балерину, которая участвовала, как и я, в «Танцсимфонии» Лопухова. Соллертинский с балериной шли ночью по Петербургу, она читала ему вслух очень романтичес киестихи. Увидев впереди трех хулиганов, Соллертинский предложил свернуть, но балерина отказалась и продолжала, декламируя, идти вперед. Хулиганы попытались ее ограбить. Она двинула своей сумочкой по голове одного, ударом ноги свалила другого, а третий, увидев такое, сбежал. Взяла перепуганного Соллертинского под руку и, как ни в чем не бывало, пошла дальше, продолжая читать стихи. Соллертинский с грустью сознавался, что после этой прогулки он свою подругу разлюбил.
Одно время в нашем «Щелкунчике», кроме серых мышей, воевали также и белые мыши. Я решил: пускай белые мыши бегают у елки, это будет интересно. Но, как всегда, времени не хватило, и получилось не очень убедительно. Люди путались: им казалось, что белые мыши — хорошие. А у Гофмана и Чайковского — мыши плохие. И я решил, чтобы не было путаницы, белых мышей снять. А вообще, это традиционная сцена, по Иванову. В балетах любят показывать сражения, игрушечных солдат. Как солдат стоит, двигается — это легко изобразить, удобно. Игрушки хорошо получаются в балете. А детям нравятся сражения.
Когда я был маленький, у меня было несколько игрушечных солдатиков. Мне их подарили. Другие дети собирали оловянных солдатиков, но я этим не увлекался. Зато мы в школе играли в атаманов-разбойников. И в войну! Сами выдумали специальную игру, без сабель. Нам с саблями и другими острыми вещами запрещали баловаться. Можно пораниться. А если поранишься, значит, не сможешь выступать. Педагоги заэтим строго следили: не потому, что им было жалко нас, детей, а чтобы театру ущерба не нанести.
Нам в балетной школе многое запрещали. Нельзя было кататься на лыжах, на коньках. Нельзя было ездить на велосипеде. И с мячом играть было нельзя. Но мяч нас как раз не интересовал, потому что увлечение футболом и прочими такими вещами началось много позднее.
Конец первого акта «Щелкунчика» — это вальс снежинок. Все кругом засыпает снегом. Мари идет по снегу и не замечает, что она босая на одну ногу. А дело в том, что одну свою туфлю она швырнула в Мышиного короля во время битвы. И где теперь достать в лесу новую туфлю?
Волков: Чайковский писал директору императорских театров: «Второе действие "Щелкунчика" можно сделать удивительно эффектно, — но оно требует тонкой, филигранной работы». Ларош писал: «В Заключени и"Щелкунчика" авторы устроили пеструю этнографическую выставку (танцы: испанский, арабский, китайский, русский трепак, французская полька и контрданс). Чтобы написать эти танцы, Чайковский не стал заниматься музыкальной археологией, не зарылся в музеи или библиотеки; он сочинил такую музыку, какую захотел. Инапример, его китайцы обошлись без всяких признаков китайской музыки. Общее впечатление — восхитительное».
Баланчин: Разумеется, ничего китайского в «Щелкунчике» нет. Чайковского не интересовала борьба хороших и плохих китайцев. Его китайский танец — это не китайская музыка, а замечательная вещь Чайковского. Идея всех этих танцев принадлежала Петипа. В балетах всегда был дивертисмент, нужны были какие-то танцевальные номера. Вот Петипа и предложил: испанский, арабский, русский танец. Для арабского танца Чайковский взял грузинскуюколыбельную. Это грузинская мелодия, а не арабская, — но кому какое дело? Получился маленький шедевр.
Вообще второй акт «Щелкунчика» — более французский, чем немецкий. Петипа понравилась идея Конфитюренбурга, потому что в Париже в те времена модными были специальные обозрения, в которых разные сладости изображались танцующими. На самом деле, второй акт «Щелкунчика» — это огромный балетный магазин сладостей. В Петербурге был такой магазин, назывался «Елисеевский»: огромные зеркальные витрины, залы, как во дворце, потолки высокие. Роскошные люстры, почти как в Мариинскомтеатре. Полы в «Елисеевском» посыпали опилками, и потому шаги не были слышны — как по ковру ходили. В этом магазине были сласти и фрукты изо всех стран, как в «Тысяче и одной ночи». Я часто мимо проходил и смотрел на витрины. Купить я там ничего не мог, слишком дорого было. Но помню этот магазин так, как будто вчера стоял у витрины и смотрел.
Все, что появляется во втором акте «Щелкунчика», — это сладости или что-нибудь вкусное. Или игрушка — как Матушка Жигонь с полишинелями. Фея Драже — это кусок сладостей, и ангелочки сделаны из сахара. Паяц — леденцовый. Это все сахарное!
В петербургском «Щелкунчике» был еще Принц Коклюш. Коклюш — это название такой детской болезни, когда дети кашляют. Я думаю, Принц Коклюш должен был изображать сладкие леденцы или тянучки от кашля. Но это было не очень понятно, поэтому в нашей постановке вместо Принца Коклюш с феей Драже в конце «Щелкунчика» танцует просто Кавалер.
Все это вместе — Конфитюренбург, конфетный город. Его придумал Гофман, а Петипа понял, что получится красиво и интересно, и оставил его. В публике не всегда понимают, что на сцене сласти и игрушки, спрашивают — что это такое? Может быть, мы сами виноваты, что непонятно, но мы уж старалиськак могли. А должны у всех слюнки течь.
В конце балета Мари и Щелкунчик, превратившийся в Принца, уезжают в санях, запряженных оленями. В Мариинскомтеатре не было оленей. Это я придумал. Публике очень нравится. Если бы Мари и Щелкунчик вместо оленей уезжали на кенгуру, никто бы не понял. Когда придумываешь новое, надо — вместо того чтобы увлекаться фантазированием — брать то, что уже существует в жизни. На оленях ведь можно уехать! Все сразу что-то вспоминают, и это помогает нам создавать общую иллюзию. Каждая такая деталь очень важна в балете вроде «Щелкунчика». Надо постепенно все делать, иначе скажут: что это такое? такого не бывает! никто так не делает! мы этого не понимаем! Публику надо к новомуприучать шаг за шагом, чтобы людям не казалось, что их считают идиотами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: