Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка
- Название:Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-9691-0728-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка краткое содержание
Автор этих воспоминаний, Лев Лазаревич Хургес (1910, Москва – 1988, Грозный), был человеком своего времени: технарем, романтиком, послушным слугой революции. В 14 лет его поразила первая и всепоглощающая, на всю жизнь, «любовь» – страсть к радиоделу, любовь, которая со временем перешла и в «законный брак», став профессией. Эта любовь завела его далеко – сначала, в 1936 году, в Испанию, где он, радист-интернационалист, храбро воевал на стороне республиканцев, и уже в 1937 году – в ГУЛАГ. Львиную долю своего 8-летнего срока он отмотал на Колыме. Между романтизмом Испании и соцреализмом Колымы – тысячи связующих нитей: взаимная слежка, взаимный страх доносительства, взаимные предательства, весь тотальный бесчеловечный советский социум. Читать эти воспоминания интересно и легко: в них и история, и люди, и мужественная борьба за выживание и за достоинство человека в нечеловеческих условиях, и озорной блеск в вечно юношеских и влюбленных глазах.
Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Доротея Августовна выглядела бы гораздо моложе своих лет, если бы не совершенно седая голова. Вообще, она смотрелась очень импозантно: молодое, почти без морщин, лицо, стройная фигура еще не старой женщины и совершенно белая, словно в парике, голова. Она часто рассказывала мне эпизоды из своей авантюрной жизни, да и мне было что ей рассказать, и еще у нее в запасе всегда была целая серия теперь уже широко известных анекдотов про умного еврейского мальчика – Морица, который, учась в немецкой школе, часто ставил учителей в тупик своими наивными вопросами и чересчур правдивыми ответами.
Рассказывали, что незадолго до нашего прибытия на «23-й километр» в нашей женской зоне в возрасте около восьмидесяти лет умерла мать Генриха Ягоды – бывшего зампреда ОГПУ. Она была очень религиозной, и моя мать, которая также была очень набожной, часто видела ее в московской синагоге в Спасо-Глинищевском переулке. Мать Ягоды всегда окружали личности в штатском, но, если кому-то из родственников все же удавалось подойти к ней и вручить заявление с жалобой на незаконный арест, то можно было считать, что этот невинно арестованный уже на свободе. Взяв такое заявление и убедившись, что человек действительно невиновен, она шла на Лубянку (охрана, зная, чья это мать, беспрепятственно пропускала ее) и направлялась прямо к сыну, врывалась в его кабинет, не обращая внимания ни на что, даже на ранг сидевших там энкавэдэшников. Старуха, достав из сумки заявление, начинала хлестать им Ягоду по лицу, мешая при этом русские слова с еврейскими: «Мамзер [213], выродок, мерзавец, кровопийца, мешумед [214], и как только я могла родить такого негодяя!» Ягода обычно тут же на заявлении писал резолюцию: «Освободить». При тогдашней законности этого было вполне достаточно, чтобы человек вернулся домой.
Вот таким образом эта старуха спасла не один десяток невинно арестованных. И вместо почетной старости – каторга, десять лет по статье ЧСИР на Колыме, вместо похорон на самом почетном месте любого кладбища гниют ее косточки в общей яме в колымской земле. Да будет тебе колымская земля пухом, святая женщина…
На «23-м километре» я встретил Гиту Рубинштейн [215], с которой я до 1925 года учился в одной школе (33-я школа БОНО в Москве) и даже в одном классе. Я очень хорошо помнил эту очень миловидную девочку, ей тоже было тогда пятнадцать лет, с длинными черными косами и большими темно-карими глазами. Я ее, конечно, давно потерял из виду и после окончания в 1925 году школы-семилетки до встречи здесь больше не встречал. Из разговоров коллег по работе я узнал, что с ними в одном бараке живет и работает в картонажном цехе переплетчицей женщина по фамилии Рубинштейн, но зовут ее Женей. Поскольку мою одноклассницу звали Гитой (это Генриетта), я решил, что это просто однофамилица. Но когда однажды к нам в мастерскую вошла молодая и очень прилично одетая женщина, ее лицо показалось мне знакомым. Услышав ее фамилию, я сразу понял, что Женя и есть та самая Гита, с которой я учился. Подойти к ней я из-за своего тряпья постеснялся. К концу работы я все же попросил Ольгу Яковлевну Лоренц узнать у Жени, не училась ли она в Москве в 33-й школе БОНО и не помнит ли Леву Хургеса?
На следующее утро в нашу мастерскую вбежала Женя с большим пакетом в руках. В нем были хлеб, кусочек сала, немного сахара и прочие лагерные деликатесы. Увидев меня, она расплакалась. «Неужели это ты, Лева? – говорила она сквозь слезы. – Что они с тобой сделали! Вот где довелось встретиться!» Сели мы с ней в сторонку, и насколько это можно было, ведь кругом были не только зэки, но и вольное начальство, стали друг другу рассказывать перипетии своей судьбы и как мы дошли до жизни такой.
Оказалось, что после школы Женя окончила в Москве Текстильный институт и вышла замуж за младшего сына Троцкого – Сергея Седова. У них родилась дочь Юля. До 1937 года они жили обычной жизнью советских тружеников. Отец Жени был крупным специалистом по металлургии и по мере возможности помогал своей единственной дочери. В конце 1936 года Сергея арестовали, а через некоторое время забрали и Женю. Девочка осталась у родителей Жени. Получила Женя, как и я, статью КРТД и восемь лет, но не тюремного заключения, а общих лагерей. Попала она сразу же на Колыму, быстро «дошла», на каком-то прииске была актирована и уже несколько лет жила здесь, на «23-м километре». Устроилась она, по-лагерному, неплохо.
5
С момента выезда из Новочеркасской тюрьмы у меня прекратилась всякая связь с домом. В наши тюремные зоны на Мальдяке и Ленковом письма почти не приходили, и от нас их тоже не принимали, да и писать было нечем и не на чем, не говоря уже о том, что ничего хорошего мы домой написать не могли.
В отличие от наших старых (Мальдяк, Ленковый) тюремных зон, здесь, на «23-м километре», старожилы уже давно успели наладить контакты с родными. Женя Рубинштейн со своими связями имела надежную переписку с домом и сумела через своих родных передать моим мой адрес. И вот, наконец, я получил первое долгожданное письмо от матери, а всего за время пребывания на «23-м километре» я получил три или четыре письма.
И вот вызывают меня однажды на нашу лагерную почту. «Откуда ждете посылку?» – спрашивает почтарь. Я назвал адреса и фамилии всех, откуда мог бы получить посылку. «Нет, нет, – отвечает почтарь, а раз уж вызвали, значит посылка есть наверняка, тем более что фамилия моя очень редкая и однофамильцев быть не может, но порядок есть порядок, да и поиздеваться-то над зэком полагается. – Иди, подумай. Может, вспомнишь, откуда еще могут тебе прислать. Не вспомнишь – пошлю обратно», – сказал почтарь.
На другой день я назвал ему еще несколько возможных адресов, но опять не то. Дня три он так измывался надо мной, пока не проговорился: «Из Минска, от Рикуса не ждешь посылки?» Я вспомнил, что отца моей тетки звали Борис Романович Рикус и жил он в Минске. Только после этого мне вручили посылку, пересыпав ее содержимое из ящичка в мешок (почему-то ящики от посылок зэкам выдавать не разрешалось). Позже я узнал, что из Москвы и Московской области посылок в архипелаг ГУЛАГ не принималось, а до Минска этот запрет в те времена еще не дошел. Вот моя мама, по договоренности с тетушкой, и организовала эту посылку из Минска. Это была единственная посылка, которую я получил за девять с половиной лет своего крестного пути. Видимо, запрет вскоре докатился и до Минска.
В посылке оказалось два больших, килограмма по два-три, шара масла, несколько плиток шоколада и еще что-то очень вкусное. Вечером мы с друзьями устроили небольшой курбан-байрам. Съели почти все, оставлять что-либо съестное в бараке было бесполезно, все равно украдут, а таких камер хранения, какие Солженицын описывает в «Одном дне Ивана Денисовича», у нас в лагере и в помине не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
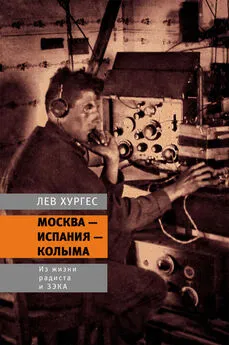


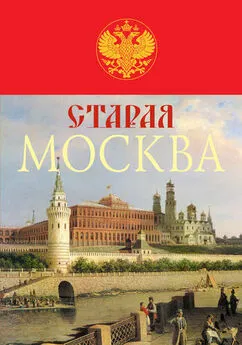

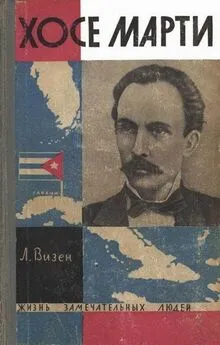
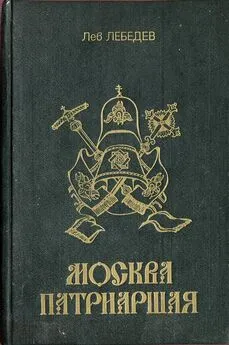
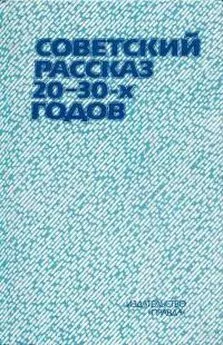
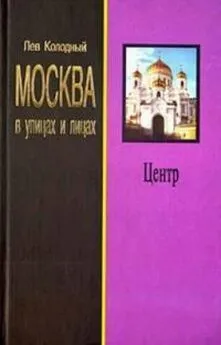
![Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]](/books/1095972/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv.webp)