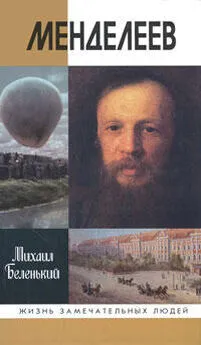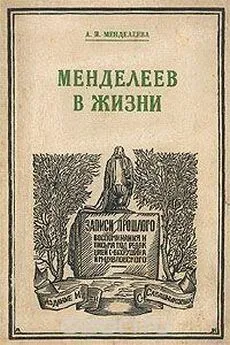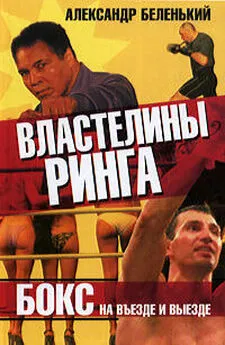Михаил Беленький - Менделеев
- Название:Менделеев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03278-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Беленький - Менделеев краткое содержание
Дмитрий Иванович Менделеев известен большинству читателей как «отец» русской водки и автор Периодического закона. Между тем по широте научных и практических интересов его можно сравнить с титанами Возрождения. Кроме занятий химией, он писал книги по экономике и социологии, конструировал высокоточные приборы, разрабатывал таможенные тарифы, летал на воздушном шаре, исследовал спиритизм, возглавлял русскую метрологию, выступал экспертом на судебных процессах об отравлениях и подделке денег и называл себя «волонтером нефтяного дела». Неутомимый путешественник, он провел девять лет за границей. Его имя неразрывно связано с именами великих современников H. Пирогова, Н. Зинина, А. Бутлерова, А. Бородина, И. Репина, А. Блока. Среди его любимых учеников были революционеры H. Кибальчич и А. Ульянов. Ходят слухи, что он был отправлен правительством за границу, чтобы добыть секрет иностранного пороха. Он был дважды женат, но изменял женам с «любовницей»-наукой.
Книга рассказывает о непростых семейных отношениях Менделеева, о его истинной роли в изобретении русской водки и бездымного пороха и раскрывает суть конфликта с академической средой, в результате которого всемирно признанный ученый не получил на родине звания академика.
Менделеев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К осени 1903 года Менделеев утратил зрение настолько, что уже не мог сам не только читать и писать, но даже расписываться в нужном месте на официальных бумагах. Он не жалуется на свою слепоту, но теперь безропотно и с благодарностью принимает помощь сотрудников, направляющих его руку с пером в нужное место. Домашние и сослуживцы боялись самого страшного — «темной воды», как тогда называли неизлечимую глаукому. Но офтальмолог И. В. Костенич определил болезнь как катаракту, то есть помутнение хрусталика, и взялся провести операцию, которая сама по себе была в те времена в России редкостью, хотя практиковалась довольно давно — вспомним прозрение Ивана Павловича Менделеева в 1837 году. Тяжелая операция была проведена в два этапа. Ход окончательной операции едва не был нарушен Дмитрием Ивановичем, который в самый неподходящий момент рефлекторно схватил хирурга за руку; но всё, слава богу, обошлось, хотя профессор Костенич и его ассистенты выскочили из операционной на грани обморока. Негодные хрусталики были выдавлены — их роль в будущем должны были исполнять очки с очень толстыми стеклами. А пока Менделеев надолго оказался в полной темноте.
В такой период жизни любой, даже не столь нервный и одержимый своими занятиями человек мог потерять самообладание и сделаться тягостной обузой для окружающих. Но Дмитрий Иванович, неожиданно для многих, проявил себя совершенно с другой стороны. Он воспринял случившееся без всяких метаний, с великим спокойствием. Незрячий ученый по-прежнему держал на контроле все палатские дела, заслушивал доклады и давал указания, посещал научные собрания и диктовал докладные записки. А когда ему совсем нечем было себя занять, отдавался своему любимому удовольствию — клеил коробки. Их он делал теперь небольшого размера, используя материал папок и обклеивая их специальной, собственного изобретения, водостойкой холстиной. Для украшения изделия мастер пускал по краям веселый бордюрчик. «Посмотрите, как правильно всё измерено, а ведь я ничего не вижу-с. Я вам нарочно для того показал, чтобы вы видели, что могут сделать одни руки человека, если только он захочет».
Еще больше удовольствия ему доставляло чтение вслух. Для него Дмитрий Иванович перебрал сначала всех домашних, а потом почти всех сотрудников Палаты, среди которых особенно отличал известную нам Озаровскую, читавшую громко, внятно и с чувством: «Ольга Эрастовна так газету читает, что даже телеграммы слушать интересно». К тому же эта сотрудница лучше всех, по мнению управляющего, умела «впускать» ему капли в глаза. Литературу он подбирал сам, по своему давным-давно определившемуся вкусу. Ценил Шекспира, Шиллера, Гёте, очень любил Байрона, Пушкина и русских писателей до Пушкина. Современную же русскую прозу, ту, которую во всем мире до сих пор называют великой, Менделеев не любил: «Мученья, мученья-то сколько описано! Я не могу… Яне в состоянии». Во время болезни он чаще всего предпочитал слушать Дюма, Жюля Верна, приключенческие романы из жизни краснокожих или истории про благородного разбойника Рокамболя, причем сопереживал героям по-детски живо и непосредственно. Например, читает ему Ольга Эрастовна из Дюма что-то вроде: «В это мгновение рыцарь поднялся, взмахнул мечом, и шесть ландскнехтов лежали распростертые на полу таверны…»
— Ловко, — одобряет с детским восторгом Дмитрий Иванович. — Вот у нас , — плаксиво продолжает он, — убьют человека, и два тома мучений, а здесь на одной странице шестерых убьют и никого не жалко.
— Окно раскрылось, — читает дальше Озаровская, — и хорошенькая головка высунулась из него. В одно мгновение по веревочной лестнице рыцарь взобрался к самому окну. «О благородный рыцарь, — начала Сюзанна, — скажите, как благодарить мне вас? Поверьте, что моя госпожа не остановится ни перед чем, чтобы достойно вознаградить вас за оказанную услугу. Скажите, чего вы хотите, и ваше желание будет исполнено». — «Прелестная Сюзанна, — воскликнул рыцарь, — моя награда в ваших руках…»
— Поцелует, поцелует! Сейчас поцелует! — на высоких нотах кричит Дмитрий Иванович и бьет ногой в сапоге по кровати.
— «Один поцелуй ваших прелестных уст вознаградит меня за все опасности, которым я подвергался…»
— Ага! Ловко! Что я сказал? Поцеловал! Поцеловал! Молодец!.. Отлично! Ну, дальше…
Говоря о духовно близких Менделееву людях, которые на протяжении многих лет не только работали под его руководством, но и всячески ограждали ученого от неприятностей, оберегали от волнений, старались развлечь шахматами или чтением вслух, были рядом во время болезни и считали своим долгом донести до потомков память о своем учителе, нельзя не сказать о его ближайших помощниках и авторах первой документальной биографии — В. Е. Тищенко и М. Н. Младенцеве. Университетский ассистент Менделеева Вячеслав Евгеньевич Тищенко (1861–1941) не ушел вслед за своим профессором в Главную палату мер и весов, хотя дела его в ту пору шли неважно и перспектива сдать магистерский экзамен, не говоря уже о том, чтобы стать когда-нибудь профессором, казалась весьма туманной. Был момент, когда он вознамерился сменить поприще, но прозорливый Менделеев, вместо того чтобы взять к себе талантливого и преданного человека, сумел ободрить младшего коллегу и вернуть его на путь, более соответствующий его натуре. Впоследствии Тищенко стал известным профессором-органиком, деканом и проректором университета. В советское время он был избран академиком и удостоен Государственной премии (посмертно) за простой и оригинальный способ производства камфары из скипидара. О том, насколько Менделеев оказался прав в отношении его жизненного пути, свидетельствует письмо Тищенко В. И. Вернадскому, в котором он, в частности, пишет: «…я пришел к убеждению, что лучше той жизни, которую прожил, мне, по моему складу и дарованиям, нечего и желать». Его младший товарищ Михаил Николаевич Младенцев (1872–1941) вскоре после смерти Менделеева ушел из Палаты учительствовать, но в 1924 году вернулся в родные стены, чтобы организовать здесь музей, одно из отделений которого было посвящено русской метрологии, а второе — Менделееву.
В 1938 году Тищенко и Младенцев опубликовали первый том биографии своего учителя, в котором отразили период его жизни с рождения до участия в конгрессе в Карлсруэ. Авторы этой книги не были писателями, их слог отличался лишь четкостью и правильностью изложения, но зато книга содержала настоящий массив ценнейших документов, включая воспоминания, письма и фрагменты тогда еще малоизвестного гейдельбергского дневника Дмитрия Ивановича. В предисловии авторы писали: «Перед нами еще большая часть труда, выполнение которой мы, как близкие сотрудники Д. И. Менделеева, считаем своим нравственным долгом». Долгое время считалось, что им не удалось осуществить свои дальнейшие планы, пока историк науки Ю. И. Соловьев в 1989 году не нашел в личном фонде В. Е. Тищенко, хранящемся в Петербургском отделении Архива Российской академии наук, большую рукопись документальной биографии Менделеева, охватывающую весь следующий, университетский, период его жизни — с 1861 по 1890 год. Оказалось, что рукопись уже успела побывать в руках добросовестного редактора, профессора С. А. Погодина, который в 1948 году откомментировал ее и подготовил для печати в Госхимиздате. Но публикация почему-то не состоялась, и готовая рукопись снова вернулась на архивную полку. Во втором томе также использовалось огромное количество интереснейших источников, с помощью которых воссоздавался образ сложного, но удивительно целенаправленного человека, каким был Дмитрий Иванович. При этом биографы не опускали и не лакировали даже тех эпизодов, которые их учитель при жизни предпочитал не вспоминать. К примеру, «сабуровская» история описана ими со всей откровенностью, хотя и с очевидным внутренним смущением. Несмотря на то, что второй том, пролежавший в архиве в общей сложности 46 лет, был, наконец, найден, его публикация снова задержалась — теперь, к счастью, всего на четыре года. В 1993 году он был напечатан в 21-м томе «Научного наследства» тиражом в тысячу экземпляров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: