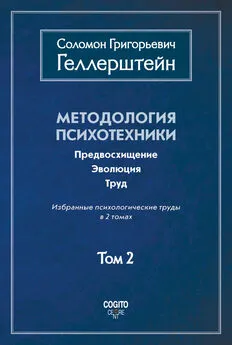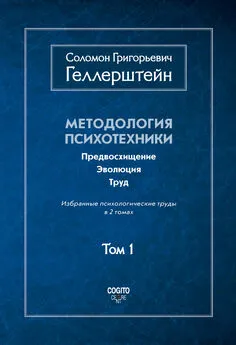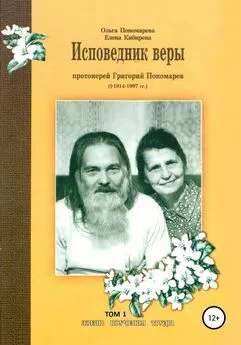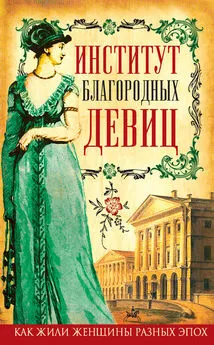Вера Фигнер - Запечатленный труд (Том 2)
- Название:Запечатленный труд (Том 2)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство социально-экономической литературы “Мысль”
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Фигнер - Запечатленный труд (Том 2) краткое содержание
Замечательная русская революционерка-народница Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) прожила долгую и необыкновенную жизнь. Она родилась в 1852 году — в царствование Николая Первого, лучшие годы жизни отдала борьбе с его наследниками Александром Вторым и Александром Третьим, Николаем Вторым, которые наградили ее десятилетиями тюрьмы и ссылок.
Запечатленный труд (Том 2) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Через три дня объяснение пришло.
Писала мать, писала прощальное письмо: она при смерти… три месяца, как не встает… два раза делали операцию. Операцию рака, прибавляли сестры.
Мучительный гнев, готовый на разрыв с самым дорогим, — и на пороге смерть! Что было делать? Какие горькие упреки, презрительные укоры могла дочь послать умирающей матери?
…Надо было отвечать, и ответ мог быть последним письмом, которое застанет мать в живых.
Жестокое сердце смирилось. Не упреки и укоризны — все прегрешения мои против матери, когда-либо в прошлом сделанные, встали в памяти. Встало и все добро, которое она для меня сделала. Воспоминания детства, когда она закладывала основы моей духовной личности: моральная поддержка, которую она оказывала в мучительное время перед арестом; радость, которую давали редкие свидания с ней в тюрьме до суда, и та отрада, которую я получала в общении с ней в решительные дни суда. Вспоминалось все. Много, много дала она мне. А я, что дала ей я, сначала отрезанная ранним замужеством, а потом революционной деятельностью и ее последствиями? Одни только огорчения; и мало ли их было! Невнимание, эгоизм, свойственный молодости по отношению к родителям, непонимание… резкое слово, неприятная улыбка, крошечный укол молодого задора… Все, все вспоминалось и кололо проснувшуюся память. Ничего, решительно ничего не дала я ей во всю мою жизнь.
Теперь наступил день расчета: оставалось пасть на колени в раскаянии и в признательности за все, что она для меня сделала, упасть и, облив горячими слезами дорогие руки, просить прощения… И я просила.
Ответом были незабываемые слова: «Материнское сердце не помнит огорчений…»
Глава двадцать девятая
Страх жизни
Итак, через 20 месяцев после 22 лет заключения я должна оставить Шлиссельбургскую крепость. 20 месяцев для размышления, для обдумывания будущего.
Широкая, как необозримое поле, этическая задача встала передо мной.
Судьба дает тебе редкий случай — вторую жизнь; но ты вступаешь в нее не как младенец, ничего не ведающий, ничего не испытавший; не как ребенок, перед которым все возможности; не как юноша, у которого позади ничего, впереди все. У тебя долгое, сложное прошлое; у тебя на плечах тяжелая ноша: краткий раскаленный путь революционной борьбы, а потом долгий путь леденящего заточения. И с таким грузом ты выходишь на поле жизни. Тебе 50 лет, и ты можешь прожить еще целых 20. Какое употребление из них сделаешь ты? Чем наполнишь их? Чем осветишь и чем освятишь их? Твои взоры были и должны быть обращены к небу, но лишь за тем, чтобы ловить лучи света для земли. Что же принесешь ты этой земле? Что дашь ей?
И было мучительно и жутко думать об этих вопросах, а неумолчный голос день и ночь задавал их.
Никто не мог помочь в разрешении их: ни книга, ни товарищ, ни друг. Они решались наедине с собою, никому не ведомые, никем не слышимые.
День страшного суда — суда для себя, суда для будущего…
Непрерывное раздумье и полное раздвоение личности: жизнь внешняя вся по-прежнему — обычная работа в мастерской, прогулка, разговор через решетку с товарищами-соседями о чем угодно, видимо, обычном и доступном; и жизнь внутренняя — подводное течение мысли и чувства, непрерывно бегущее в одном и том же направлении. Напряженная внутренняя работа… Загадка, которую нужно разрешить и которой не находишь разрешения. Предстоит жизнь, а кругом нет реальной почвы. Она, эта реальная почва, шаг за шагом в течение 20 лет убегала из-под ног, и вместо нее являлась пустота. Куда, в каком направлении ушла жизнь за четверть века? Что в ней отмерло, заглохло? Что откинуто и разрушено? И что народилось, пустило ростки, развилось и, быть может, возмужало? Что?
И ты подобно пустыннику у Лескова, 20 лет простоявшему на столбе, внезапно слышишь голос: «Иди в Дамаск!» Слышишь голос, призывающий в жизнь, и подобно ему страх жизни охватывает тебя, отрешившегося от жизни не только плотью, но и духом.
Я походила на человека, которому неизбежно приходится плыть, и он не умеет, не знает. Когда-то в прошлом он умел, но забыл и недоумевает: что ему с собой делать? Перед ним, кругом все море да море; под ногами крошечная глыба земли, на которую со всех сторон наступают воды, они наступают, и день за днем кусок земли убывает, размываемый волной. Умеет или не умеет — все равно плыть придется. А он, пока еще есть время, обдумывает, как плыть. Обдумывает телодвижения, как взмахивать руками и двигать ногами; в какую сторону плыть; где земля и какова мера сил его. Он боится и сомневается в себе, в капризах моря… колеблется: что будет делать, как будет действовать? И никто не может помочь ему, чтобы среди водной пустыни представить себе, как вести себя, бросившись в воду…
В это время нам дали Чехова, все тома. Он умер — тогда дали; пока был жив, не разрешали. Я принялась за чтение и глотала один том за другим, пока, охваченная тоской, не сказала себе: «Нет, больше не могу».
На пороге второй жизни предо мной проходил ряд слабовольных и безвольных людей, ряд неудачников, ряд тоскующих. Страница за страницей тянулись сцены нестроения жизни и выявлялась неспособность людей к устроению ее. «Три сестры» мечутся, ожидая спасения от переезда в Москву. Но разъедающую тоску или бодрый дух жизненного творчества человек носит в себе самом, и «сестры» будут так же бесплодно вянуть в Москве, как вяли в провинции.
Вот люди вместо действенной работы во имя лучших форм жизни, вместо борьбы за нее усаживаются на диванчик и говорят: «Поговорим о том, что будет через 200 лет». Они не сеют, но хотят будущей жатвы, мечтают о ней, как будто она может прийти сама собой, без усилия всех и каждого… и эта пассивная мечта о светлой, радостной и счастливой жизни для человечества единственный луч, блещущий в сумерках их существования.
Неужели же современное поколение таково? Неужели жизнь так тускла, бездейственна и мертва? И если она такова, зачем выходить на свободу? Если она такова, какая разница: томиться ли в тюрьме или вне ее? Вот выйдешь из стен крепости и вместо тюрьмы маленькой попадешь в тюрьму большую. Зачем же выходить в таком случае? Зачем тусклую известность менять на тусклую неизвестность?
Правда, в 1901 году пришел к нам добрый вестник — Карпович. Правда, он был сама бодрость и уверенность, что наша родина переживает знаменательное «накануне». Он говорил, что вся Россия трепещет молодым, деятельным стремлением к свободе, к переустройству жизни на новых началах. Все бурлит, борется и вскипает. Он рассказывал о пробуждении городского пролетариата, о росте его самосознания и выступлении на политическую арену, о волнующейся культурной молодежи, провозглашающей смелые лозунги борьбы за право и свободу. Он поразил нас цифрами ремесленников Западного края, организованных «Бундом». Казалось, новый дух веет над русской равниной, которую мы оставили такой безмолвной, аморфной и покорной. Прошло двадцатилетие, и Россия была подобна громадному котлу с тяжелой перегретой жидкостью: она уже подрагивает… на ее поверхность со дна всюду пробиваются струйки горячего пара… Вот-вот вся жидкость вздрогнет и закипит… [109]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Владимир Войнович - Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер]](/books/1093644/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere.webp)