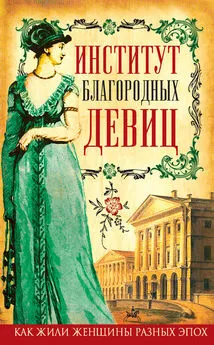Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
- Название:После Шлиссельбурга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев
- Год:1933
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Фигнер - После Шлиссельбурга краткое содержание
Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер
После Шлиссельбурга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я разъясняю, что уплата недоимок не входит в намерение жертвователей; что деньги собраны на хлеб насущный, чтоб люди не болели, не умирали с голоду.
Побившись в этом словопрении достаточно, я предлагаю такую комбинацию. Я слышала, что у управляющего есть работа — вырыть канаву, чтоб осушить болотистое место между барским садом старой усадьбы и рядком деревенских изб. Не хотят ли крестьяне сделать эту работу? Это дало бы возможность уплатить недоимку и вместе с тем оздоровило бы деревню.
Ладно! Староста поговорит с «обчеством».
Но через несколько дней все это оказывается лишним: крестьяне не хотят канаву рыть. Почему? Никто мне объяснить не может или, скорее, не хочет.
За старостой идет татарин. Жалкая, старческая фигура, бледное лицо все в морщинках и почти без всякой растительности.
По-русски говорит очень плохо, а понимает русскую речь, пожалуй, еще хуже. Он просит отпустить ему ржи или муки; говорит, что дома ни зерна не осталось; пришел из соседней татарской деревушки, верстах в двух от нас.
Я отвечаю, что сегодня же или много-много завтра пошлю кого-нибудь узнать о его семейном положении, и тогда мука будет тотчас же отпущена. Но это не удовлетворяет его. Он хочет получить теперь же: он ждать не может, не может вернуться домой ни с чем.
Сколько я ни говорю ему, он стоит на своем, и, наконец, решительно заявляет, что с места не сойдет, пока не получит требуемого. Он садится на ступени балкона, на котором происходит разговор… Последний аргумент! Мне кажется, он даже ложится тут!.. Я скрываюсь в комнаты.
Я чувствую гнусность своего положения. Я поступаю отвратительно…
Этот распростертый старик… Конечно, он нуждается: он не имеет вида нахала, этот изможденный, моргающий глазами, выцветший старик. Где же во мне сострадание?.. На меня нашло упрямство: меня уже осаждали ложными претензиями… и я поставила себе за правило проверять степень нужды каждого.
Правило, правило… ведь я сама себе навязала правило…
И эта жалкая, упрямая фигура, распростертая на крыльце барской террасы… Гадость… И не хочется уступить, чтоб не создать репутации: «Хоть образованные, а придурковаты все».
… А все-таки, быть может, у него дети, и им есть нечего! Внезапно меня озаряет мысль: я зову девушку Машу и посылаю ее в кухню за печеным хлебом.
Я выношу его на балкон.
— На, возьми хлеб и ступай домой. Сегодня же приедет приказчик к вам, тогда приезжай за мукой.
Татарин, словно проснувшись, встает и, положив хлеб в холщовый мешок, бредет прочь из сада, такой же жалкий и беспомощный, каким вошел в него.
А на мне стыд остался, стыд до сих пор, что не поверила сразу, не сумела настоящей нужды отличить от попрошайничества.
Он, действительно, нуждался: приказчик удостоверил это…
Решительно — дело было не по мне. Помогать из своего кошелька, помогать, когда, сколько и на что хочешь, — это одно. Это — дело милосердия, сострадания и любви. Но взять чужие, общественные деньги, в которых надо дать отчет, считаться с волей давальцев… повесить вывеску: «Здесь дают»… «Просите, и дастся вам», — это какая-то обязанность без внутреннего содержания, подчинение себя и чужих нужд выдуманным правилам, которые становятся ярмом, придают всем отношениям характер официальности, на самого себя нацепленной… И все это сопровождается справками, проверками — каким-то сыском… Нет! Я не могу выносить такого положения; не могу быть не самой собой, а лишь уполномоченным чужого добросердечия…
— Наташа! Возьми деньги. Возьми от меня эти деньги, — просила я свою кузину, приехавшую из Казани. — Не могу я заниматься этим делом: я не умею; мне неприятно, мне тяжело, — упрашивала я ее.
— Ну, вот, всегда так! Тяжело, неприятно, так вали на чужую шею! — отвечает она. — А мне, ты думаешь, приятно?
Аргумент попадает в цель. И в самом деле, если и ей неприятно, какое право имею я свою неприятность перекладывать на ее плечи?
— Ты права! Попробую потянуть еще… — вздыхаю я.
И тяну… тяну…
… Наступило 9 мая, Николин день, храмовой праздник в нашем селе. Весь день разливное веселье царит в Никифорове: слышатся гармоника, песни; вся деревня высыпала на улицу; толпятся у ворот, ходят парами, сидят на завалинках; принарядившиеся бабы щелкают семечки, а ребятишки вертятся у всех под ногами.
Вечером разгул вовсю: все пьяно; мужики горланят пьяные песни; отовсюду несутся пьяные выкрики…
На барском дворе, в старой усадьбе, где летом живут сестры, пусто: работники ушли ночевать к женам в соседнюю деревушку; старик-сторож от выпивки еле на ногах стоит; старший работник, так называемый староста, пьянствует где-то у родственников.
В новой усадьбе, усадьбе брата, в которой живу я, царствует полная тишина. В доме — только я, да деревенская девушка, исполняющая несвойственную ей роль горничной. В «людской» — только одни стряпухи: работники разошлись кто куда, а управляющий, или приказчик, пьян-пьянешенек, пирует, должно быть, у кумовьев.
Уж половина 11-го, и я сижу, усталая, над книгой. Внезапно с высоты соседней колокольни раздается удар колокола… другой… третий… Все громче, лихорадочнее звучит набатный колокол среди весенней, теплой ночи. Я спешу к окну и вижу на востоке, совсем близко, громадное пламя пожара.
Краска гнева заливает мое лицо, и почти с отчаянием я думаю: еще этого недоставало! Нищенствуют, голодают… просят и унижаются, а теперь перепились и спалили свою деревню… Что же будет теперь с ними?
Напрасно я стараюсь разбудить Машу. Она не внемлет моим словам, таким странным, таким необычным:
— Вставай, вставай скорее, Маша! У нас пожар: горит Никифорово! Вставай! Огонь близко — мы сгорим!..
Все тщетно: ее 16-летний деревенский сон непробуден…
… Наконец, мы обе на дворе. Меня изумляет спокойствие стряпух, которые стоят в бездействии подле забора, изредка обмениваясь отдельными замечаниями. Разве не надо выносить все из дома?.. Разве не надо выгнать скот в поле, чтоб не сгорели лошади и коровы?..
Я не могу ориентироваться: мне кажется, что горит ближайший к нам порядок изб, откуда слышен глухой гул толпы и где высоко к небу взвиваются столбы пламени и дыма.
— Да что вы?! — возражает стряпуха. — Это не Никифорово горит… Горит ваша старая усадьба!..
Вот оно что! Горит «старый дом»! Это лучше, чем несчастная деревня… Только бы не она!.. только бы не она!..
И все звучит набат, посылая с высоты колокольни в ночной воздух новые и новые волны… И все новые языки огня и волнующиеся клубы дыма поднимаются за «старыми ивами» нашего сада.
Эти ивы, этот сад, окружающие старую усадьбу со всеми ее службами, сберегут крестьянские избы; спасут деревню от конечного разорения… А там, за ними, среди весеннего засушья, горит сначала овчарня, и в ней живьем гибнут овцы; горит конюшня, которую спьяна сторож не в силах отпереть, и в ней живьем сгорают лошади… Потом горят флигеля, сараи, и горит со всем своим добром «старый дом» времен дедушки…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

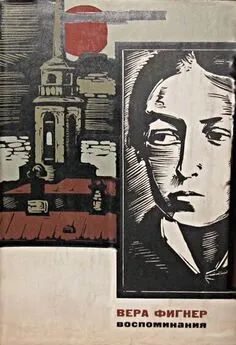

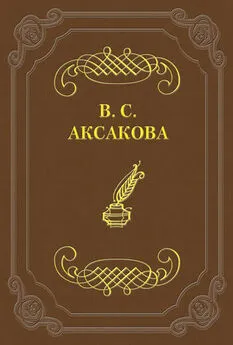




![Владимир Войнович - Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер]](/books/1093644/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere.webp)