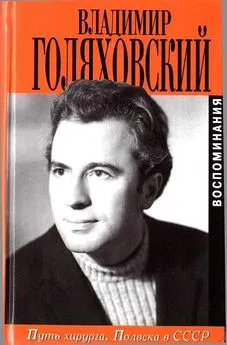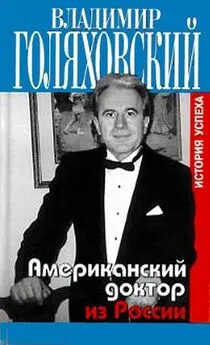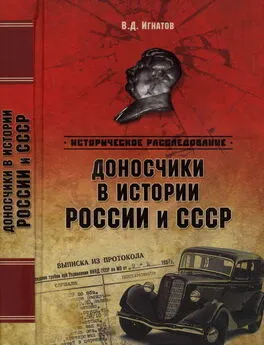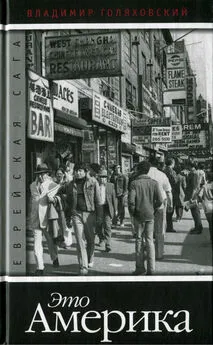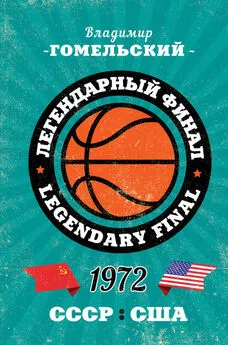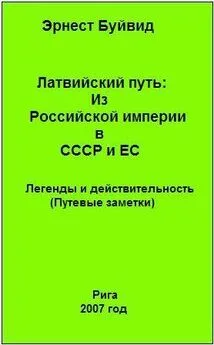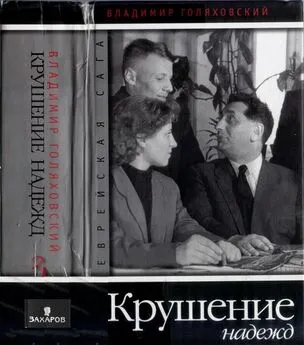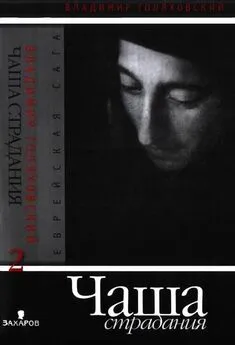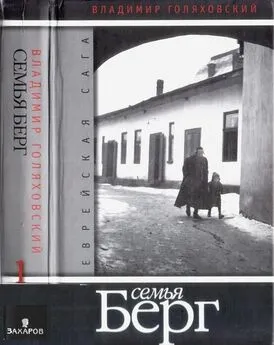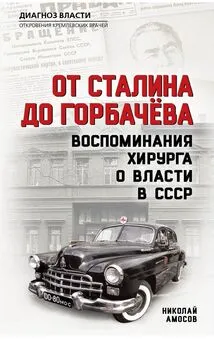Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР
- Название:Путь хирурга. Полвека в СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2006
- ISBN:5-8159-0574-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР краткое содержание
Владимир Голяховский был преуспевающим хирургом в Советской России. В 1978 году, на вершине своей хирургической карьеры, уже немолодым человеком, он вместе с семьей уехал в Америку и начал жизнь заново.
В отличие от большинства эмигрантов, не сумевших работать по специальности на своей новой родине, Владимир Голяховский и в Америке, как когда-то в СССР, прошел путь от простого врача до профессора американской клиники и заслуженного авторитета в области хирургии. Обо всем этом он поведал в своих двух книгах — «Русский доктор в Америке» и «Американский доктор из России», изданных в «Захарове».
В третьей, завершающей, книге Владимир Голяховский как бы замыкает круг своих воспоминаний, увлекательно рассказывая о «жизни» медицины в Советском Союзе и о своей жизни в нем.
Путь хирурга. Полвека в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На кафедре велось преподавание трем старшим курсам: четвертому курсу — травматология (лечение переломов и вывихов), пятому — ортопедия (лечение заболеваний костей и мышц), шестому — военно-полевая хирургия (организация помощи раненым на войне). Все дни были загружены занятиями с группами, показом операций и чтением лекций. Ассистенты строго следили, чтобы не было пропусков на занятиях и лекциях.
Начав преподавать, я вскоре понял, что настоящих человеческих контактов между студентами и преподавателями не происходило. Студенты не были избалованы простым и добрым отношением своих учителей. Многие боялись и не любили их, и было ясно почему: подбор преподавателей по партийной принадлежности состоял в основном из малокультурных людей. Поэтому для студентов было необычно, что в перерывах на лекциях и после операций я запросто беседовал с ними на отвлеченные темы. Иногда я приглашал несколько ребят к себе в кабинет. Они входили робко, останавливались у двери, не знали — как себя вести и что им можно ожидать от меня.
— Рассаживайтесь, хотите кофе с печеньем?
Это поражало и сразу располагало. Я держал в кабинете сервиз и растворимый кофе — большую редкость того времени.
— Может, кто хочет курить? — я протягивал им дорогие сигареты, которых они не могли покупать. Закуривали почти все ребята, а девушки стеснялись (хотя тоже курили).
Оживясь, они начинали что-нибудь рассказывать, смеялись, как смеются все молодые, и я смеялся с ними и старался говорить обо всем запросто. Чувствительная и к плохому, и к хорошему, молодежь скоро стала отличать меня от других преподавателей. Это было заметно по доверчивости, по их открытым улыбкам и откровенным разговорам со мной о разных аспектах жизни. Иногда было трудно отвечать на их вопросы.
— Профессор, при входе в больницу висит афиша — обучение водителей автобусов и грузовиков. Там написано, что через полгода обучения гарантируют зарплату до трехсот рублей. Значит, когда я окончу институт, моя врачебная зарплата будет в три раза меньше, чем у шофера автобуса или водителя грузовика. Читаешь эту афишу и невольно думаешь: для чего я учусь шесть лет?
Вопрос острый. В государственной оплате труда было много несправедливостей и врачебная зарплата стояла на предпоследней ступеньке шкалы. Если отвечать им серьезно, это приведет к политическим дебатам. Но в советском обществе нельзя было говорить слишком откровенно: не знаешь, к чему это приведет. Из осторожности я не углублял тему:
— Ну, я тоже начинал с такой зарплаты. Но вот выжил и постепенно стал получать больше.
— Так не все же могут стать заведующими кафедрами.
— А вы тоже постарайтесь. Кроме заведования есть другие неплохо оплачиваемые работы.
— Да, но чтобы получить высокую должность, надо выслуживаться перед начальством и со студенческих лет заниматься общественной работой больше, чем изучать медицину. Тогда станешь каким-нибудь начальником и будешь заколачивать башли.
Это уже приближалось к политическому направлению. Я отшучивался:
— Есть такой анекдот: родители напутствуют своего сына в медицинский институт и наставляют его: «Учись, сынок, хорошо; будешь учиться хорошо, станешь врачом; а будешь учиться плохо — станешь главным врачом».
Они хохотали:
— А что? Так оно и есть на самом деле.
Я не возражал, а молчание — это знак согласия. Они все понимали и оценивали правильно.
Как раз в то время в медицинском мире Москвы распространился слух: по просьбе советского правительства американский хирург Майкл Дебеки приезжал делать операцию на аорте президенту Академии наук Мстиславу Келдышу, члену ЦК партии. Никто ничего точно не знал, но рассказывали разные подробности: Дебеки привез свои инструменты, потому что у нас таких нет; он привез свою операционную сестру, потому что наши не знают хороших инструментов; на другой день после операции он поставил больного на ноги. Слухи ходили, а никакой официальной информации не было (я тогда думал: вот я сделал в Германии операцию намного менее значительную, и обо этом сразу написали, а у нас ничего нет — признак отсутствия бытовой культуры). Про операцию Дебеки говорили приглушенно. Это взбудоражило умы молодежи. Однажды в коридоре я остановился около группы студентов. Там же был преподаватель группы ассистент Михайленко.
Студенты наперебой стали спрашивать:
— Правда, что на операцию правительство пригласило американца?
— Что ж, у нас нет своих хирургов, чтобы сделать такую операцию?
— Это что — была особая операция или особый больной?
Надо ответить правду, а правда была в нашем большом отставании — хирургия сосудов у нас только начиналась, а Дебеки один уже сделал шесть тысяч операций. Я знал о его методе замещения аневризмы (расширения) аорты пластмассовой трубкой, у меня была его книга. Он признанно считался лучшим хирургом мира, и я имел честь познакомиться с ним еще до его большой славы, во время съезда хирургов в Москве, в 1960 году. Я водил его в Колонный зал, рассказывая историю Дворянского собрания. Его поразило, что мы с ним входили в те самые двери, через которые выносили умерших Ленина и Сталина.
Я отвечал на вопросы студентов, не желая выглядеть дураком перед ними, и не считал, что они такие дураки, что не понимали правду. Я рассказал им о Дебеки и его методе что знал. Они слушали заинтересованно, но по лицу Михайленко, парторга кафедры, я видел, что он недоволен моим рассказом — он смотрел на нас неодобрительно.
Выслушав, студенты наперебой заговорили:
— Вот вы нам все рассказали. А раньше мы спрашивали об этой операции профессора Родионова, хирурга. Он сказал, что ничего не слышал о ней, но что вообще американская медицина развита слабее советской. А потом мы узнали, что он нам наврал, потому что сам присутствовал на той операции.
— Да, мы еще спрашивали другого хирурга, профессора Бабичева. Он накричал на нас, что это все бабьи сплетни, что операцию делал Петровский, министр здравоохранения, что он сам видел это своими глазами. И потом тоже сказал, что американская медицина в подметки не годится советской.
Я поражался, но порицать своих коллег-профессоров не хотел. Наш разговор происходил в тесном коридоре, в котором несколько больных еще продолжали лежать на полу. И эти студенты только что видели мою операцию в тесной операционной с нищенским набором инструментов. Немного надо было иметь фантазии и воображения, чтобы понять, что медицине невозможно быть более бедной и отсталой (разве что где-нибудь в Африке…).
Когда студенты ушли, Михайленко увязался за мной в кабинет:
— Вообще-то нехорошо получилось с этим разговором об операции американца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: