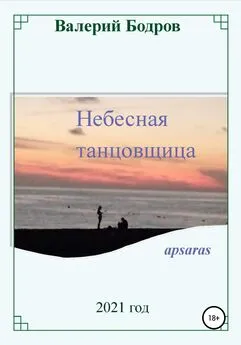Валерий Меницкий - Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя
- Название:Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Олма-Пресс
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-224-00546-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Меницкий - Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя краткое содержание
Валерий Евгеньевич Меницкий (8.02.1944 г. — 15.01.2008 г.) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Международной премии Лаурела «Лётчик года», шеф-пилот фирмы ОКБ им. А. И. Микояна, заместитель генерального конструктора.
Его по праву называют легендой русского неба, выдающимся лётчиком-испытателем. МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-33, космический аппарат «Спираль»… Судьба всех этих знаменитых машин неотделима от судьбы Валерия Меницкого.
В этой книге он впервые в истории отечественной авиации без прикрас описывает «небесную жизнь», открывает читателям особый мир создателей и испытателей авиационной техники, где кипят свои страсти, идёт своя борьба…
Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любопытно было слышать высказывания начальника вооружения Главкомата по некоторым темам. Когда речь шла о микояновской фирме, готовность которой оказалась гораздо выше суховской, он говорил:
— Ну, вот видите, тут работы непочатый край, работа идёт очень плохо, очень медленно.
Когда же дело дошло до обсуждения Су-27М и докладчик нарисовал весьма неприглядную картину, суховской бригаде в своё оправдание вообще нечего было сказать. Во время обсуждения я сидел рядом с замглавкома и с усмешкой сказал ему:
— Интересно, что же сейчас изречёт наш начальник вооружения?
А он изрёк следующее:
— Ну вот, тема перспективная, надо увеличить её финансирование, и она быстро заживёт.
А на эту тему, между прочим, и до того пролился довольно щедрый финансовый дождь.
Итоги этого совещания открыли главкому глаза на многое. Он понял, что мною руководит не микояновская спесь, а обида за то, что бездарно разбазариваются средства — на удушающую рекламу, на лоббирование, на решение личных вопросов, но не на оборону страны. Более того, начинается перекос в самой концепции в угоду Симонову. Но ведь Михаил Петрович — это не вся страна, он всего лишь рупор той маленькой группы, которая заинтересована в продвижении бюджета в его сторону.
Рассказал я главкому и о том, как лихо предыдущие начальники обошлись с темой защиты комплексов. В связи с утечкой информации в своё время возникла необходимость защитить наши комплексы специальными доработками. Тема была профинансирована Министерством обороны, и микояновцы ею плотно занимались, в то время как суховцы о ней и думать забыли. Я пытался ещё в то время поднять этот вопрос, но мне умные люди сразу сказали: ты этот вопрос не пробьёшь нигде. И это оказалось действительно так. Поскольку эти вопросы касались обороноспособности страны, в печати о них писать не разрешалось, так как считалось разглашением сверхсекретных данных. Такой подход к теме был не просто наплевательским, это было настоящим вредительством. Но суховцам это сошло с рук, а направленные на тему средства пошли на решение совершенно других вопросов.
Главком постепенно разобрался во всей этой мышиной возне, и после трёх с половиной лет работы с горе-военными строителями он начал принимать оперативные меры. Были удалены со своих постов начальник вооружения и начальник научно-технического комитета, но всё остальное в Главкомате оставалось почти по-прежнему. Перевернуть ситуацию было очень тяжело, поэтому политика оставалась прежней. Решения, которые принимались даже на уровне главкома, начинали тормозиться и в Генштабе, и по линии Министерства обороны. Я понял, насколько далеко зашло дело и как тяжело выполнить ту или иную задачу. Когда резко сократилось финансирование, я подумал: наверное, в такой ситуации государственные мужи поймут наконец, что невозможно чисто экономически тянуть темы, связанные с различными модификациями «Су». Я считаю, что самым разумным решением в такой ситуации было бы оставить на фирмах приоритетные программы. Мы это неоднократно обговаривали и с главкомом, и с его замом, и с первым заместителем главкома Героем Советского Союза Виктором Севостьяновичем Котом, и с начальником Главного штаба ВВС генерал-полковником Анатолием Ивановичем Малюковым. Например, на фирме Сухого это могла быть программа, связанная с Су-27ИБ, на микояновской — с МиГ-29М3 или МиГ-29СМТ, лёгким фронтовым истребителем. И уже к этим программам подключать другие фирмы, потому что на всех средств всё равно не хватит.
В моём представлении это выглядело так. Допустим, выделяются средства на создание лёгкого фронтового истребителя на нашей фирме. Часть проекта нам помогают делать суховцы, часть — туполевцы, ещё одну часть — ильюшинцы, ещё какая-нибудь фирма. Таким образом генподрядчик вокруг себя собрал бы целую команду, и уже эта команда работала бы по определённой программе. По такой же схеме могла решаться и приоритетная программа на фирме Сухого.
Однако все эти предложения и доводы были отвергнуты, прежде всего потому, что тому же Михаилу Петровичу это было совершенно не нужно. Зачем, имея заказ, делиться им с «нахлебниками»? Эту собственническую позицию разделяют и другие генеральные, в том числе и наш: моё никому не отдам, делиться ни с кем не хочу. Мы же предлагали систему, которая помогла бы выжить в такой тяжёлой ситуации всем фирмам, а не только избранным. И не просто выжить, а сохранить необыкновенно богатый интеллект авиационной промышленности. Потому что если мы его сегодня потеряем, восстановить его будет очень сложно.
Кстати, такой принцип был апробирован на проекте нового истребителя ATF в США. Для его создания были объединены две крупные конкурирующие группы, которые возглавили два генподрядчика «Локхид» и «Нортроп». В эти группы вошли такие авиационные компании, как «Дженерал Дайнэмикс», «Макдонел Дуглас», «Рокуэлл», «Боинг» и другие. В условиях сокращения бюджетных средств на оборону в этом объединении они увидели единственную возможность привязать к новой технологии весь наработанный авиационной промышленностью интеллект, а не распылить его в острой конкурентной борьбе. И результат это объединение оправдал.
Позиция же, которую заняли большинство наших генеральных, свидетельствует о том, что им безразлична судьба всего нашего авиационного комплекса, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Я же, повторюсь, сторонник того, что необходимо выбрать определённые конструкторские бюро, в которых собран мощный интеллектуальный потенциал, и путём объединения генерального подрядчика, главного исполнителя этой программы, и субподрядчиков целенаправленно работать над приоритетной программой. В этом случае не будет происходить распыление средств и интеллекта.
Надо сказать, что и не все военные к этой идее отнеслись одобрительно — они привыкли работать с одним исполнителем, с которым их связывают давние отношения. Перестраивать привычный стиль работы им не хотелось. Как они говорили, думая только о себе, «от добра добра не ищут». Но для всей авиационной промышленности такое альтернативное решение было бы спасением и во многом решило бы вопрос о сокращении расходов. Не секрет, что наш авиационный блок, как и ВПК в целом, был непомерно раздут. Например, на создание «МиГов» работали мощные заводы: московский — МАПО им. Дементьева и «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, каждый из которых выпускал ежегодно 250–300 единиц техники. Примерно столько же самолётов «Су» могли выпускаться на заводах в Новосибирске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре. Сегодня всем ясно, что таких огромных заказов уже не будет, значит, надо реконструировать серийное производство и оставлять нам и суховцам максимум по одному заводу. Это горькая правда, но и единственный шанс выжить в новых экономических условиях. Хотя и одного завода вполне достаточно для внутренних и экспортных поставок. Мне могут возразить, что многие авиационные заводы — градообразующие, они обеспечивают рабочие места тысячам людей. Значит, надо думать об их перепрофилировании.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: