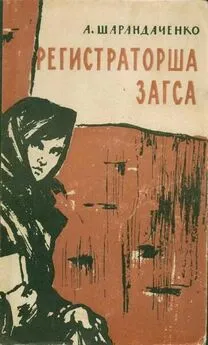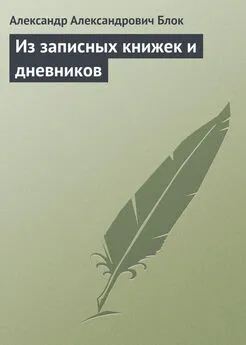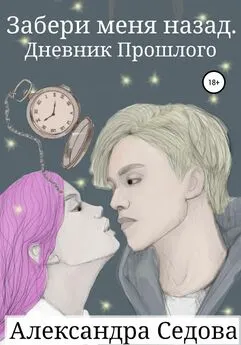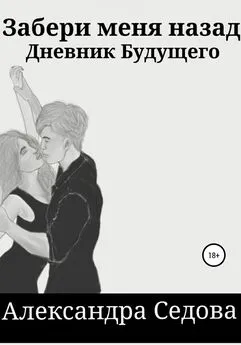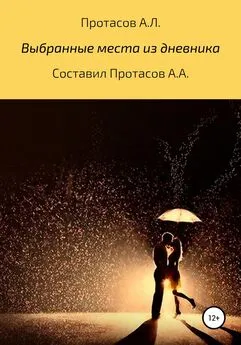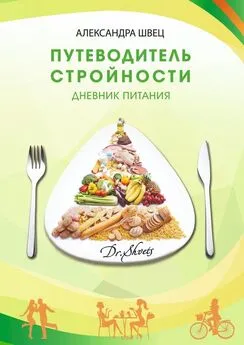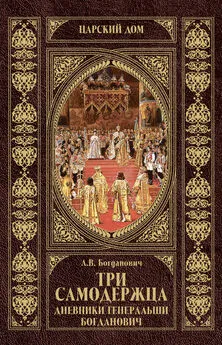Александра Шарандаченко - Регистраторша ЗАГСА. Из дневника киевлянки
- Название:Регистраторша ЗАГСА. Из дневника киевлянки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1964
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Шарандаченко - Регистраторша ЗАГСА. Из дневника киевлянки краткое содержание
Александра Филипповна Шарандаченко, учительница киевской средней школы № 4 в Пуще-Водице (ныне школа № 104), два страшных года находилась в немецкой оккупации в Киеве. Работая регистратором «бюро метрик» при «районной управе», она в течение всего этого времени вела дневник, заносила на его страницы все, что видела, что пережила сама и что переживали окружающие люди. В дневнике, ведение которого само по себе было подвигом, рассказывается о тяжелых, полных трагизма оккупационных буднях.
Автор рисует волнующую картину жизни в оккупированном гитлеровцами городе. Буквально каждый штрих этой картины пробуждает у читателя жгучую ненависть к фашизму — злейшему врагу человечества.
Регистраторша ЗАГСА. Из дневника киевлянки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Переводчица ошеломила Фросю:
— Нужно предъявить еще справку из того села, откуда выбыли.
Тут вмешалась я:
— Туда сейчас не пройдешь, там партизаны.
Переводчица доложила об этом пану Шмидту.
Фрося, догадавшись, повторила: «Партизаны» — и назвала какое-то село Иванковского района. Ей дали броню, направив на работу в фирму «Империал».
По делу Нины мне пришлось пойти в комнату № 11, где сразу же отказали: возвращение из Германии невозможно, об этом имеется специальный приказ «фюрера». Полчаса ушло у меня на оформление Фроси в «Империал».
Наконец мы двинулись к выходу, радуясь, что вырвались из арбайтзамта — век бы не знать этого слова. Обсуждаем с Фросей: самое главное сделано, броня получена. Осталось обменять направление, чтобы пойти не в «Империал», а в Сырецкое хозяйство, где Фрося и работала, но была уволена из-за отсутствия брони. Директор хозяйства пошлет запрос, и направление переменят. Ежедневно ходить пешком двенадцать километров на «Империал» невозможно.
И как же волновалась Мотя во время нашего отсутствия! Вот мы уже возле нее. Бледная, дрожащая, она кинулась навстречу: «Ну?» Вглядевшись в наши веселые лица, кинулась к ребенку.
Идем успокоенные, счастливые. Мотя напомнила сестре о ее женихе:
— Где-то сейчас твой Любышкин? Догадывается ли он, что заочно стал «отцом» и у него «вне брака» появился почти двухлетний «сын»?
Фрося краснеет.
— Он хороший и за это сердиться не будет. Если останется в живых, если вернется с фронта…
Тут она совсем застыдилась, а мы с Мотей, глядя на нее, посмеивались.
— Подарите ему эту метрику, пускай удивится, — говорю ей.
Фрося еще больше краснеет.
Мне вспомнилось: Шмидт, подписывая листок брони, через переводчицу спросил у Фроси:
— Где ваш муж?
Фрося не растерялась, спокойно ответила:
— Еще не вернулся с фронта.
У меня в ту минуту мурашки пошли по телу: сейчас что-то непременно случится. Переводчица заметит это «еще», и начнутся вопросы да расспросы. Ой, не запутаться бы всем нам! Но переводчица не поняла значения этого так опрометчиво сказанного Фросей словечка или же не придала ему значения. Я не напоминаю Фросе об этом. Все сошло гладко, и слава, как говорится, богу, незачем ее больше волновать!
Какое-то время идем молча, слушая несмолкающий лепет Леньки, который все успевает подметить — и птичку на дереве, и «коею» (коня), и кошечку у ворот, худую-худую, неказистую, а для него — сказочно красивую.
Вдруг Фрося начинает смеяться:
— Если бы вы только знали, что мне хотелось, ну просто безумно хотелось сделать, когда мы выходили оттуда…
Смотрим на нее с удивлением. Что еще такое?
— Подбежать к тому Шмидту и ткнуть ему под самый нос нашу украинскую дулю, приговаривая: «Вот тебе!»
— Ну, выдумала. Разве можно так рисковать? — поучает сестру Мотя.
Но, представив себе сценку, которую Фрося нам нарисовала, мы от души рассмеялись. И вместе с нами Ленька.
Выйдя на центральную улицу Лукьянова-имени Артема, мы остановились как вкопанные и словно онемели. Всю улицу запрудили люди. Вооруженные немцы гнали их по мостовой и трамвайной линии. С немецкой педантичностью пленники были разделены на три колонны. Отдельно шли мужчины, женщины с грудными младенцами и дети. Вид этих несчастных был ужасен, леденил кровь в жилах, лишал языка и повелевал молчать. Все же по тротуарам пронесся шепот, словно шелест ветра в камышах:
— Беженцы из Остра.
— Выгнали, в чем застигли.
— Гонят на вокзал.
— В Германию, в плен.
— То же самое и нас ждет.
Черные, голодные, измученные люди не шли, а брели, едва волоча ноги. Их подгоняли резиновыми палками, заставляя бежать. Сквозь пелену слез мы видели восьмилетних старичков с опухшими страшными ногами. Вместо лица — кожа да кости. Кто-то говорит:
— Ну и гадины. Так мучить детей…
На улице тишина. Ее нарушают лишь шарканье ног беженцев, обутых в какие-то ошметки, да окрики на чужом языке.
Когда беженцы скрылись из вида, мы не пошли, а почти побежали. Мотя с тоской промолвила:
— А нас что ждет?
Ответ всем понятный: последовательно и «организованно» «фюра» передушит всех. Если только успеет.
Спускаясь к Глубочице, увидели женщину в дорогом платье из шифона. Она горделиво шла навстречу по тротуару с надписью: «Hyp фюр дейче». Это была чванливая немка с большими претензиями. Она виляла бедрами, громко стучала по асфальту «европейского фасона» босоножками на деревянных подошвах. На голове этой мегеры было что-то накручено, наверчено, не поймешь что, а сверху, видимо для большего шика, болтались в беспорядке растрепанные волосы. Люди молча проходили мимо этого «чуда».
Немка шла рядом с офицером и вела на поводке крошечного желтовато-черного песика. Пропускали и песика, осторожно сторонясь. Он, видимо, был чистокровной породы.
Остановившись, посмотрели вслед этой чуме. Леня реагировал по-своему. Он начал бормотать: «Ка-ка, ка-ка…»
Дошли уже до Лукьяновского рынка, когда нам на глаза попались живые образцы нынешнего киевского транспорта-украинские «кули» или «рикши». В небольшую тележку, где лежали чемоданы, был впряжен мальчонка, совсем еще ребенок. Он тащил тележку, а сбоку шел здоровенный, мордастый немецкий военный и с довольным видом осматривал, как свою собственность, нашу улицу, здания. В тележку несколько больших размеров, так называемую двуколку, доверху нагруженную чемоданами, был запряжен старик. Он старался догнать нанявшего его немца, который спешил на вокзал, словно и не замечая того, что старик, тяжким трудом зарабатывающий на кусок просяного хлеба, уже умылся в эту жару третьим потом… А в одну из таких «двуколок» запряжен молодой, но страшно истощенный мужчина с повязкой на левой руке, на которой мы не успели прочесть какую-то длинную надпись. Он вез немецкого полковника, грудь которого обильно украшена крестами и медалями. Вытаращив глаза, надув старчески припухшее лицо и широко расставив ноги, офицер тяжело восседал на двух чемоданах. Этот, очевидно, из каких-то особых соображений сменил автомашину на человека — «рикшу».
Мы побывали на почти безлюдном рынке. Купили конфету Лене, раздобыла и я нашим детям по конфетке. Ленька с гостинцем так и заснул у меня на руках.
Не задерживаясь, направились дальше и вскоре оказались недалеко от Бабьего Яра, на дороге, которая ведет к Сырцу. Когда я свернула было, чтобы выйти на улицу, поближе к моему дому, Мотя и Фрося не пустили меня, потащили «на часок» к себе. Так, мол, родители им наказали.
Бабий Яр отгорожен от дороги колючей проволокой, к которой нельзя приблизиться. Это «запретная зона». Ужас что там сейчас делается. Людей убивают в Бабьем Яру не пулями, а электрическим током и приспособлениями «высокой немецкой техники». Следы насильственной смерти уничтожают огненные струи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: