Антон Бринский - По ту сторону фронта
- Название:По ту сторону фронта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Волго-Вятское книжное издательство
- Год:1966
- Город:Горький
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Бринский - По ту сторону фронта краткое содержание
Герой Советского Союза А. П. Бринский в годы Великой Отечественной войны командовал партизанским соединением, действовавшим в Белоруссии, в западных областях Украины и в Польше. Отряды, входившие в партизанское соединение Бринского, совершили за время войны свыше пяти тысяч диверсий в тылу врага.
В книге «По ту сторону фронта» автор рассказывает, как советские люди, находясь на временно оккупированной врагом территории, выполняли указание Коммунистической партии — создать невыносимые условия для фашистских захватчиков и их пособников. Герои книги — подрывники, разведчики, связные, радисты. А. П. Бринский хорошо показывает боевую дружбу народов Советского Союза, связь партизан с местным населением, с народом, ярко рисует героизм советских людей, их глубокую веру в победу над врагом.
По ту сторону фронта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вечером появились посланцы из-за Горыни: тот самый Бовгира, который в ноябре провожал нас до Пузни, и Антось — крестьянин с Хочинских хуторов. От имени «Пидпильной спилки» они просили вместо ушедшего отряда Сидельникова организовать новый. А у нас уже подготовлена была группа: лейтенант Сивуха в качестве командира-организатора и с ним еще пятнадцать партизан. Сразу же они собрались (партизанские сборы недолги) и выехали в Хочин вместе с посланцами «Пидпильной спилки».
Потом мы вчетвером — я, Корчев, Федоров и Кизя — навестили сварицевичского священника Рожановича. Активно включившись в борьбу с захватчиками, этот старик не ограничивался только проповедями, которые сами по себе, в условиях Западной Украины, играли свою роль. Он писал письма другим священникам и часто, несмотря на возраст, выезжал за пределы своего прихода — в соседние села и ближайшие города. Вот и сейчас он вернулся из поездки в Сарны, где был по поручению Корчева, чтобы наладить разведку и по возможности привлечь к нашему делу своих знакомых — тоже, конечно, из духовенства. Вести он привез хорошие, но не они были основной темой нашего разговора в этот вечер.
— Иван Иванович, а вы пинского архиерея знаете, Александра, кажется? — спросил я.
— Знаю. А что?
— Что вы про него думаете?
— Шкура, прости господи (батюшка иногда не стеснялся в выражениях). Кто его рукоположил? Немцы его поставили. Этим он и живет.
— А нельзя ли с ним связаться, испытать его?
— Трудно рассчитывать… Но, может быть, и в нем заговорит русская кровь… Вы хотите, чтобы я попытался?
— Да не вы сами, — возразил Корчев. — Может быть, Нонна Ивановна съездит?
Нонной звали замужнюю дочь священника, уже выполнявшую раньше поручения партизан.
— Нет. Она не знает. Лучше уж я Сашу пошлю.
— А справится ли?
— Она хитрее меня это дело обделает… Саша, поди-ка сюда!
Вошла попадья — женщина тоже немолодая, но хорошо сохранившаяся, такая же высокая, как и муж, но в противоположность ему, полная.
— Что? — спросила она. — Ужинать будете?
— Подожди, у нас другие планы…
Мы рассказали ей в чем дело, и она согласилась съездить в Пинск, отвезти импортному архиерею подарки, без которых он, разумеется, не пойдет нам навстречу, поговорить с ним, разведать его мысли, передать ему обращение митрополита Сергия, а потом и наше письмо, которое мы уже подготовили.
Договорившись, мы хотели уходить, но хозяйка удивилась:
— А ужинать?
И отец Иван замахал руками:
— Что вы?.. Куда вы?..
Ужин был обильный, и к нему — бутылочка поповской наливки и немного спирту.
Чтобы не обидеть старика, мы остались.
— Его же и монаси приемлют, — изрек Иван Иванович.
Старики расчувствовались. Начались воспоминания о России; о Питере, откуда они уехали в восемнадцатом году, испугавшись революции.
— И чего испугались! — вздыхала попадья. — Так бы и жили теперь. У меня и сейчас еще там где-то сестра живет. А я оторвалась от своих, от Родины. От Родины — вы понимаете! Сколько уж мы плутали по Европе!.. И ведь за границей я только и полюбила по-настоящему Родину. Нашу. Свою. Россию. Ведь и сюда мы приехали — тогда тут еще Польша была, — чтобы быть поближе к России, чтобы свой народ… Знаете, как в тридцать девятом году тут ждали освобождения! И вот пришли русские солдаты… Я все искала — в Домбровицу ездила, в Сарны ездила — все искала питерских, ленинградских. Узнавала. Писала письма. Хотелось найти своих. С сестрой мне удалось списаться, а тут — война…
И вдруг, потянувшись к висевшей на стене гитаре, она спросила:
— Не хотите ли послушать русские песни?
Отказываться было неловко.
Она тиха тронула струны:
— Когда я на почте служил ямщиком…
У нее было сильное контральто, и петь она умела, но, конечно, сказывались годы.
И странно, и радостно было здесь — на захваченной фашистами земле, в поповском домике, от попадьи — слышать старую народную песню.
Но песня закончилась. Низко опустив голову над гитарой, подбирая какой-то новый мотив, певица говорила:
— Вот этим и утешаюсь. Только одной мечтой и живу: кончилось бы поскорее нашествие этих сумасшедших и тогда — к сестре в Питер… в Ленинград… в Ленинград…
Поздно мы вышли от Рожановича, но оказалось, что день наш еще не кончился: доложили, что приехал и ждет меня вызванный мной Фомин.
Здесь необходимо объяснение. Этот Фомин — бывший казачий сотник, бывший белогвардеец — сделался при немцах комендантом полиции в Высоцке. Еще из-под Хочина я написал ему письмо, упрекая в измене русскому оружию и предлагая отказаться от позорной службы у гитлеровцев. Потом, узнав, что Фомин был дьяконом в Вилюни и что семья его до сих пор проживает там, я написал ему снова; а Корчеву поставил задачу: во что бы то ни стало добиться, чтобы в Высоцке не было полиции. Вскоре через родню полицаев партизаны связались с подчиненными Фомина, а те организовали подпольную группу. Возглавлял ее заместитель коменданта, и целью она себе ставила — переход к партизанам. Непосредственно связан с ней был командир нашего отряда Мисюра, работавший, как я уже говорил, до войны участковым милиционером в Высоцке. По мере успехов советского оружия на фронтах группа росла и активизировалась. Немало полезных сведений получили мы от этих людей, а иногда, узнав от них пароль, партизаны и сами появлялись в Высоцке.
Так, в одну из ночей в начале января наша группа, воспользовавшись паролем, сняла полицейского часового и проникла в казарму. «Сдавайтесь!» Никто не оказал сопротивления, но, как на грех, в эту ночь многих полицаев не было в казарме. «Нельзя оставлять дело наполовину, идти, так всем, чтобы, никакой полиции не осталось в Высоцке, — сказал заместитель коменданта. — И вы не беспокойтесь: назначьте место, назначьте срок — мы сами явимся». На том и согласились, и ночной налет партизан на полицию решили скрыть, считать как бы несостоявшимся.
Письмо Корчева к высоцким полицаям о том, что в ближайшее время и среди них начнутся аресты и расстрелы, довершило дело. Тринадцатого января вся высоцкая полиция, во главе с Фоминым, явилась в лес, в указанное Корчевым место. Когда в этот же день, тринадцатого января, фашисты начали облаву на нас и явились в Высоцк, чтобы выступить оттуда вместе с тамошней полицией, оказалось, что там полиции уже нет.
Корчев поместил полицаев на одной из своих запасных баз в лесу между Сварицевичами и Золотым в виде отдельного отряда, оставив Фомина командиром. Это было необходимо, чтобы показать, что мы доверяем им. Но для порядка, для большей верности, для того, чтобы этот отряд из полицейского стал партизанским, заместителем к Фомину назначили Базыкина и присоединили к отряду еще семерых старых, испытанных партизан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
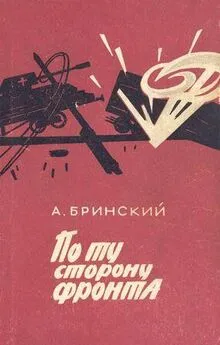
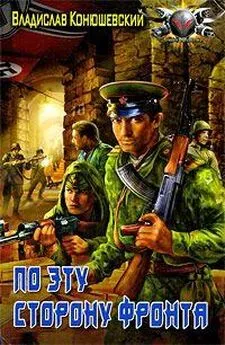
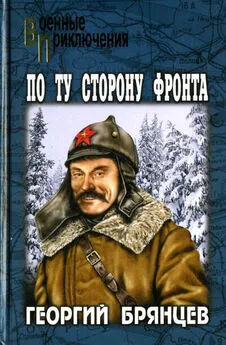
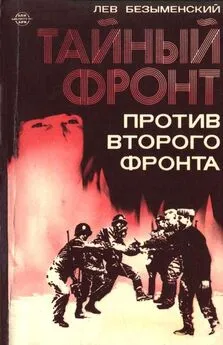

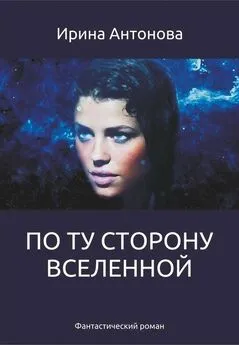

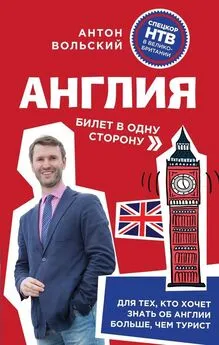
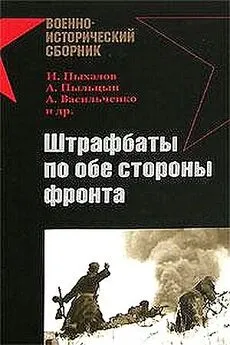
![Владислав Конюшевский - Попытка возврата [Попытка возврата. Всё зависит от нас. По эту сторону фронта. Основная миссия]](/books/1146018/vladislav-konyushevskij-popytka-vozvrata-popytka-vo.webp)