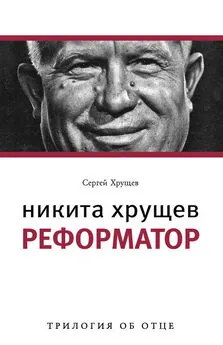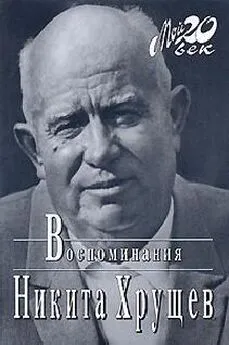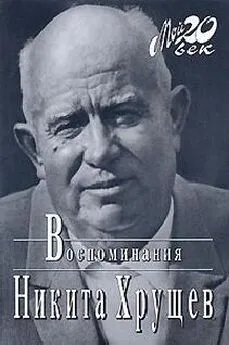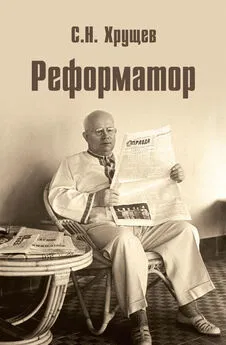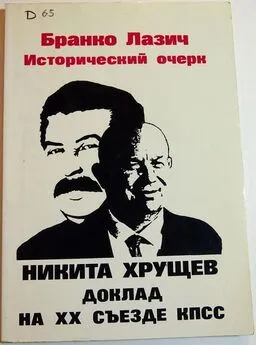Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор
- Название:Никита Хрущев. Реформатор
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0533-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор краткое содержание
Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.
Никита Хрущев. Реформатор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Капица за границу тогда так и не поехал.
«С сожалением, но пришлось отказать ему, — констатировал уже в отставке отец и тут же добавил: — Впоследствии (в 1966 году. — С. Х. ) он побывал за границей, съездил с большим шумом в Англию. Я радуюсь за него и испытываю некоторую ревность, что не я решил этот вопрос. Однако то, чего мы опасались в былые времена, перестало сейчас служить препятствием. Мы стали признанной ядерной державой.
Не было ли в моей осторожности “отрыжки” сталинских времен? Возможно, возможно. Не сразу освобождаешься от моральных наслоений, даже тех, которые сам осуждаешь».
В 1963 году Совет обсуждал, как реформировать образование и чему учить в школах и высших учебных заведениях. Главные споры разгорелись вокруг реформы среднего образования. Министры среднего и высшего образования Всеволод Николаевич Столетов и Вячеслав Петрович Елютин настаивали на переходе от десятилетки к одиннадцатилетке.
— Школа не успевает подготовить всесторонне развитого человека, — убеждал слушателей Столетов.
— Всесторонне развитый человек — есть человек всесторонне недоразвитый, — парировал академик Дородницын. — Каждый человек, если он человек, имеет свой стержень жизни. Здесь он должен знать все досконально, а остальное лишь вспомогательное, обеспечивающее этот стержень. Только так достигается гармония, остальное лишь бесплодные мечтания.
Дородницына, человека жестких принципов, как и Лаврентьева, окружающие побаивались. Вот и сейчас министры не нашлись, что ему возразить.
Паузой воспользовался Лаврентьев, он считал, что школьные программы перегружены преподаванием русского языка.
— Вот мы, ученые, не знаем его в совершенстве, но это не мешает нам общаться, доказывать теоремы и развивать теории, — привел он более чем спорный довод. — Николай Николаевич, вы хорошо знаете русский язык? — не дав присутствующим опомниться, обратился он к академику Семенову.
— Пожалуй, нет, — после легкого раздумья ответил Семенов.
— А как вы обходитесь с бумагами? — продолжал настаивать Лаврентьев.
— Пишу неразборчиво, а секретарша поправляет все, как надо, — недовольно пробурчал Семенов.
Дискуссия явно заходила не туда, и тут слово взял Келдыш.
— Не надо передергивать, — в своей мягкой манере начал он. — Об изучении русского языка следует говорить осмысленно. Всякий культурный человек, а ученый тем более, должен быть высокограмотным человеком. Русский язык — основа нашей культуры и нашего собственного миросозерцания.
Келдыша поддержал академик Кириллин, постепенно к ним присоединились и остальные члены Совета. Лаврентьев и Семенов остались в меньшинстве. Единогласно все высказались за сохранение десятилетки. Идею перехода на одиннадцатилетнее образование похоронили надолго.
Другая «интересная» тема — надбавки к окладам за научные степени, докторские и кандидатские. Многие считали их не только бесполезными, но и вредными, побуждающими к защите диссертаций не ради знаний, а с целью улучшения своего материального положения. Предполагалось лишить ученых «незаслуженных» привилегий. Доброхоты регулярно снабжали отца нелепыми темами диссертаций, благо объявления о защитах, согласно закону, ежедневно публиковались в «Вечерней Москве». Отец нередко использовал эти курьезы в своих выступлениях, но с принятием решения не спешил, хотел посоветоваться с кем-то лучше знающим предмет, чем окружавшие его сотрудники ЦК и журналисты. К тому же, сам не имевший возможности как следует выучиться, он испытывал внутреннее благоговение перед наукой и учеными. Настоящими, конечно, делающими дело, а не болтунами. Он отослал проект решения о надбавках на отзыв Лаврентьеву.
«Большинство ученых не склонны к сколько-нибудь существенной ломке системы присуждения ученых степеней и званий. Ее нужно усовершенствовать, но ни в коем случае не ломать», — возражал Ларентьев в своем ответе. Он считал, что льготы для «остепененных» не так уж обременительны бюджету. Большинство диссертантов — добросовестные ученые, и их труд следует так же материально стимулировать, как он, Хрущев, требует стимулировать труд рабочих и колхозников. Ничего зазорного в этом нет, что же касается «научных пустоцветов», то их меньшинство, надо бороться с ними, а не с диссертациями.
Прочитав записку, отец пригласил Лаврентьева к себе. Подробностей разговора я не знаю, но, вернувшись домой, отец со смехом вспоминал один из аргументов Лаврентьева: «Лишать кандидатов и докторов наук их привилегий — все равно что свинью стричь: визгу много, а толку чуть».
Шутки шутками, но кремлевская встреча с Лаврентьевым изменила настрой отца. Подготовленный проект решения он не подписал.
В октябре 1964 года отца отстранили от власти. Буквально на следующий день ликвидировали Совет. Лаврентьев в Москву переехать так и не успел.
Преемники отца рассматривали Совет по науке как организацию исключительно личностную, связанную с Хрущевым, а значит, подлежащую уничтожению. Собственно, таковой она и была. Отец испытывал внутреннюю потребность в общении с учеными, нуждался в их знаниях, нуждался в дискуссиях с ними, порой непростых и взаимно не очень приятных, нуждался в их советах, независимых суждениях. С их помощью он старался уловить тенденции развития окружающего нас мира, обеспечить стране ускоренное развитие, выход на передовые рубежи в конкуренции с Западом, с Америкой.
В непрекращающейся борьбе с энтропией, с засасывающим все и вся хаосом Совет становился очень важным и действенным инструментом. Преемники Хрущева, провозгласив принцип стабильности, стабильности в интересах государственного и партийного аппарата, сами стали органической частицей нарастающего хаоса, энтропии. Возглавивший правительство Косыгин искренне верил в действенность бюрократической иерархии. При наличии Госплана, Госкомитета по науке и технике, Академии наук, к чему ему еще и собственный Совет по науке? Он представлялся капризом Хрущева, проявлением волюнтаризма, вот его и ликвидировали за ненадобностью.
Сыграла роль и личностная составляющая. Косыгин, заместивший отца в кресле главы правительства, не простил Лаврентьеву его негативной позиции при обсуждении проекта Нижне-Обской ГЭС.
Сохранилось свидетельство академика Гурия Ивановича Марчука о последних днях существования Совета. Председатель Совета Лаврентьев, секретарь Совета Марчук и иже с ними в те годы разрывались между Академгородком, Сибирским отделением Академии наук и Советом по науке, постоянно сновали из Новосибирска в Москву и обратно. Неудобство такой жизни им компенсировалось определенными московскими удобствами: персональной «Волгой» из совминовского гаража по вызову, если кому понадобится — хорошей гостиницей. По воспоминаниям Марчука: «В октябре 1964 года, 14 числа, через 4 часа после проводов представительной французской делегации, меня пригласил М. А. Лаврентьев в кабинет и сказал: “Гурий Иванович, в Москве что-то случилось, мне как члену ЦК надлежит немедленно прибыть на Пленум. Вы поедете со мной, дело может коснуться и нашего Совета по науке”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: