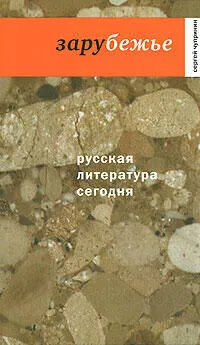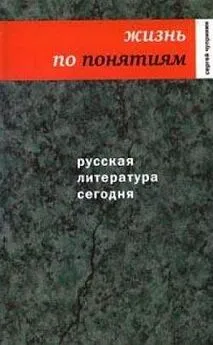Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
- Название:Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0757-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета краткое содержание
В эту пеструю, как весенний букет, книгу вошли и фундаментальные историко-литературные работы, и мемуарные очерки, и «сердитые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, известный критик, главный редактор журнала «Знамя», как и положено, внимательно разбирает художественные тексты, но признается, что главное для него здесь — не строгий филологический анализ, а попытка нарисовать цельные образы писателей, ни в чем друг на друга не похожих, понять логику и мистику их творческого и жизненного пути. Вполне понятно, что в этой галерее портретов и пейзажей находится место и автопортретам, так что перед нами — самая, может быть, исповедальная и самая «писательская» книга Сергея Чупринина.
Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эту способность поэзии Высоцкого порождать чувство единения, пусть иллюзорного, стоит запомнить. Но мы пока о другом. О том, что все-таки именно у Высоцкого и только у Высоцкого ощущение удушья стало, во-первых, господствующим тоном судьбы и стиха, а во-вторых, связалось «с гибельным восторгом», с чувством физической невозможности и дальше существовать вот так — без воздуха и вне воздуха:
Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам…
И именно Высоцкому и в полной мере только Высоцкому, если говорить о поэтах, не удалось совладать с собственной природой и осуществить заветнейшую мечту человека эпохи застоя: «Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать…»
И тут самое время вспомнить, что на воцарение застоя, поначалу осознанного многими как благодетельная стабильность, едва ли не вся поэзия ответила резким понижением гражданственного тонуса, отказом не только участвовать в имитации общественной жизни, но даже и задевать те социальные, социально-нравственные проблемы, о которых нельзя было высказываться свободно.
Речь, понятно, сейчас не о присяжных одописцах, в которых недостатка, само собою, не было и в годы застоя, но что ж о них-то говорить?.. Речь и не о тех публицистически раскаленных стихах, что, как выяснилось впоследствии, все-таки писались и тогда, но по причинам, от поэтов, как правило, не зависящим, своевременной огласки не получали и потому для широкой читательской аудитории как бы не существовали вовсе.
Речь о шедших в печать и к читателям книгах, публикациях, среди которых было немало замечательных, но которые на разный манер и с разными, возможно, целями, с разным, во всяком случае, уровнем осознанности формировали этику неучастия и стоического терпения, «тихого, окопного героизма», как выразился один из критиков.
«Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять», — писал Александр Кушнер в минуты, когда жизнь казалась и была особенно гадкой, утешая и себя, и читателей тем, что выпадали и худшие ведь времена:
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
«Замри на островке спасенья в резервной зоне, посреди проспекта — и покорно жди, когда спадет поток движенья», — твердил Александр Межиров, и свой «Островок безопасности» искал Александр Аронов, а Давид Самойлов будто подытоживал:
Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.
Так — в одной линии движения российского стиха. Но так же и в другой линии, недаром принявшей самоназвание «тихой лирики».
«По холмам задремавшей отчизны» туда, где высится, «как сон столетий, божий храм» и где «в избе деревянной, без претензий и льгот» живет бессловесный и безропотный «добрый Филя», умчалась муза Николая Рубцова. «Гигантское забытье», «кондовый сон России» пригрезились Юрию Кузнецову. «Как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле», склонился над милой красотой природы и культуры Владимир Соколов. «Предосенний свет», скудные краски увядания несла в себе лирика Анатолия Жигулина. Подалее от событий, поближе ко «дну» и «истоку» лирических воспоминаний и интимных переживаний, натурфилософских и историософских откровений увели читателей Алексей Прасолов и Анатолий Передреев, Олег Чухонцев и Василий Казанцев, Николай Тряпкин и Глеб Горбовский…
Говоря все это, я никоим образом не хочу задеть честь или умалить достоинство поэтов — современников Владимира Высоцкого. «Каждый выбирает по себе» (Ю. Левитанский), и незачем — даже во имя благих побуждений — навязывать, скажем, поэту-философу несвойственную ему роль «агитатора, горлана, главаря», как незачем от Тютчева и Фета, Майкова и Щербины, Полонского и Мея требовать того, что было присуще Некрасову. Это во-первых. А во-вторых, в позиции, основывающейся на неучастии во лжи и на упрямом, хотя и терпеливом несогласии с кривдой, много благородства. И много правды, отражающей, надо думать, важные стороны характера, души, натуры наших соотечественников; не случайно ведь в национальном пантеоне такое почетное место занимают образы праведников и смиренников, миротворцев и утешителей народных…
Это так, и весь вопрос лишь в том, что одним смирением и долготерпением натура русского человека, по-видимому, не исчерпывается. Были ведь на святой Руси и смутьяны, и бунтари, были Разин и Пугачев, Радищев и Рылеев, Некрасов и Маяковский. Даром, что ли, Белинский утверждал, что уже «в удельный период» русскому народу были свойственны «скорее гордыня и драчливость, нежели смирение»? И даром ли он же, Белинский, писал, что даже
«грусть русской души имеет особый характер: русский человек не расплывается в грусти, не падает под ее томительным бременем, не упивается ее муками… Грусть у него не мешает ни иронии, ни сарказму, ни буйному веселию, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, мощной, несокрушимой».
Вот почему мы вправе сказать, что в литературе застойного времени, изобильной талантами, все-таки «оставленной» оказалась «вакансия поэта» — поэта «буйного веселия» и «молодечества», поэта социального протеста и неусмиренного гнева.
Взять на себя эту «вакансию», что, по определению, «опасна, если не пуста», суждено было Высоцкому. В этом «ролевом» предназначении и именно в нем главная разгадка. Здесь он — так, во всяком случае, казалось — не имел соперников и один — как опять-таки казалось — тянул бурлацкую лямку прямой гражданственности…
А что же, спросят, поэты «эстрадного призыва», «старшие» — хотя бы по выслуге лет — в родной для Высоцкого «семье»?
Я ни полусловом не хочу задеть честь и этих поэтов. Тем более что они действительно били в одну с Высоцким точку. Стоит сравнить стихотворение «Время на ремонте», написанное Андреем Вознесенским еще в 1967 году:
Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье, не слишком
ли ты подзатянулось?
……………………………………………………
Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки!
……………………………………………………
И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт, —
с «Песенкой об обиженном времени», созданной Высоцким в 1975 году для дискоспектакля «Алиса в стране чудес»:
И колеса времени
Стачивались в трении —
Все на свете портится от трения.
И тогда обиделось время,
И застыли маятники времени.
…………………………………………….
Смажь колеса времени
— Не для первой премии —
Им ведь очень больно от трения.
Обижать не следует время.
Плохо и тоскливо
жить без времени, —
Интервал:
Закладка: