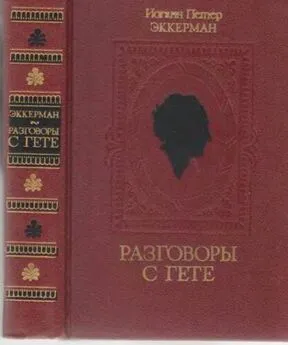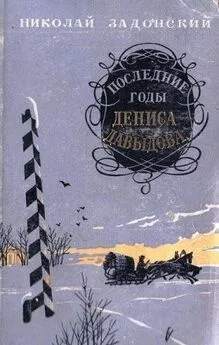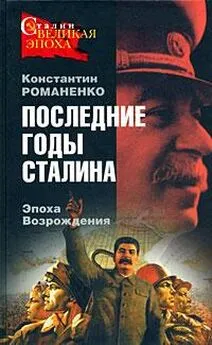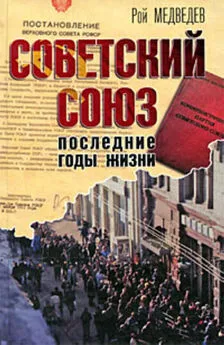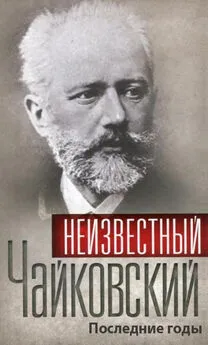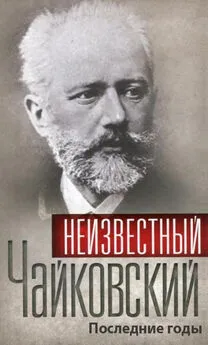Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
- Название:Разговоры с Гете в последние годы его жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни краткое содержание
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Разговоры с Гете в последние годы его жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гёте некоторое время молчал, погруженный в размышления, и наконец сказал следующее:
— Когда человек стар, он думает о земных делах иначе, чем думал в молодые годы. Так, я не могу отделаться от мысли, что демоны, желая подразнить и подурачить человечество, время от времени позволяют возникнуть отдельным личностям, столь обольстительным и великим, что каждый хочет им уподобиться, однако возвыситься до них не в состоянии. Они позволили возникнуть Рафаэлю , мысль и деяния которого одинаково совершенны. Иным одаренным потомкам удавалось к нему приблизиться, но никто не возвысился до него. Они дали возникнуть Моцарту , недосягаемо совершенному в музыке, а в поэзии — Шекспиру. Я знаю, что вы можете мне возразить касательно Шекспира , но я говорю лишь о его гениальности, о том, чем одарила его природа. Ведь и Наполеон недосягаем. То, что русские обуздали себя и не вошли в Константинополь, свидетельствует о величии духа, но оно было свойственно и Наполеону , он тоже смирил себя и не вошел в Рим.
Эта неисчерпаемая тема натолкнула нас и на другие, близкие к ней. Я, однако, все время думал про себя, что возникновение Гёте тоже было предопределено демонами, ибо и он настолько велик и обольстителен, что нельзя не желать ему уподобиться, но, увы, возвыситься до него невозможно.
Сегодня после обеда Гёте читал мне вторую сцену из второго акта «Фауста», где Мефистофель идет к Вагнеру, который силится создать человека при помощи химических ухищрений. Попытка удалась ему, Гомункул — излучающее свет существо — возникает в колбе и незамедлительно начинает действовать. На вопросы Вагнера касательно непостижимых явлений Гомункул отвечать отказывается, последовательные рассуждения не по нему, он жаждет деятельности , и ближайшим объектом таковой является Фауст. Парализованный нуждается в помощи свыше. Создание, для которого настоящее абсолютно ясно и прозрачно, Гомункул видит внутренний мир Фауста, а тому сейчас снится радостный сон: красивая местность, Леда купается в реке, и лебеди подплывают к ней. Гомункул пересказывает этот сон, и прелестнейшая картина открывается нашему внутреннему взору. Но Мефистофель ее не видит, и Гомункул потешается над его нордической ограниченностью.
— Да и вообще, — сказал Гёте, — вы убедитесь, что Мефистофель во многом уступает Гомункулу, последний равен ему ясностью прозорливого ума, но своей тягой к красоте и плодотворной деятельности значительно его превосходит. Впрочем, он зовет Мефистофеля брательником, ибо духовные создания вроде Гомункула, не до конца очеловеченные, и потому еще ничем не омраченные и не ограниченные, причислялись к демонам, отсюда и эта родственная связь.
— Правда, — заметил я, — Мефистофель в этой сцене занимает скорее подчиненное положение, но поскольку мы знаем его по прежним деяниям, я не могу избавиться от мысли, что он втайне способствовал возникновению Гомункула, ведь и в Елене он всегда появляется как существо, тайно направляющее события. Следовательно, в целом он выше Гомункула и в спокойном сознании своего превосходства иной раз даже позволяет тому над ним покуражиться.
— Вы совершенно правильно уловили их взаимоотношения, — сказал Гёте, — так оно и есть, и я даже думал, не вложить ли мне в уста Мефистофеля, когда он идет к Вагнеру, а Гомункул находится еще только в становлении, несколько стихов, которые разъяснили бы читателю его сопричастность.
— Это бы, конечно, было неплохо, — заметил я, — но, собственно, вы на это уже намекнули, завершив сцену словами Мефистофеля:
В конце концов приходится считаться
С последствиями собственных затей.
(Перевод Б. Пастернака.)
— Вы правы, — сказал Гёте, — для внимательного читателя этого, пожалуй, достаточно, и все же я хочу поразмыслить еще над несколькими стихами.
— Но эти последние слова, — сказал я, — так значительны, что придумать их нелегко.
— Я знаю, над ними придется изрядно поломать голову, — отвечал Гёте. — Отец шести сыновей, как ни верти, человек пропащий. К тому же королям и министрам, назначавшим на высокие посты невесть сколько людей, они напомнят кое-что из их собственного опыта.
Сон Фауста о Леде снова возник передо мной, и я начал понимать, сколь он важен для всей композиции.
— Это просто чудо, — сказал я, — как в таком сложном произведении пригнаны отдельные части, как взаимодействуют они, как каждая дополняет и возвышает другую. Сон о Леде во втором акте, собственно, является необходимым фундаментом для «Елены». Там ведь все время идет речь о лебедях и о лебедем рожденной, в первом же случае мы видим, как это свершилось, и, когда уже подготовленные чувственным впечатлением этой картины, мы встречаемся с Еленой — все становится еще отчетливее и совершеннее.
Гёте со мной согласился, и мое замечание, кажется, было ему приятно.
— В дальнейшем, — сказал он, — вы обнаружите, что уже в ранее написанных актах классическое все явственнее слышится наравне с романтическим, дабы мы, как на пологий холм, могли подняться к «Елене», где обе поэтические формы выступают еще отчетливее и одновременно как бы друг друга уравновешивают.
— Французы, — продолжал Гёте, — тоже начинают правильно понимать, как тут обстоит дело. «Классика и романтика, — говорят они, — одинаково хороши и в общем-то равноценны, надо только разумно пользоваться этими формами и каждую уметь довести до высшей ее точки. Можно, конечно, нагородить вздору и в той, и в другой, но в таком случае ни одна из них гроша ломаного не стоит. Метко замечено, думается мне, и пока что на этом можно успокоиться.
Обед у Гёте. Мы говорили о канцлере , и я поинтересовался, не привез ли тот ему, воротившись из Италии, каких-либо вестей о Мандзони .
— Он писал мне о нем, — ответил Гёте. — Канцлер посетил Мандзони, который живет в своем имении под Миланом и, увы, все время прихварывает.
— Странно, — сказал я, — что очень талантливые люди, и в первую очередь поэты, нередко страдают от плохого здоровья.
— То сверхобычное, что создают эти люди, — сказал Гёте, — предполагает весьма тонкую и хрупкую организацию, — они ведь, должны испытывать чувства, мало кому доступные, и слышать глас божий. Такая организация, пребывая в конфликте со стихиями и с окружающим миром, очень ранима, и тот, кто, подобно Вольтеру , не сочетает в себе чувствительности с незаурядной цепкостью, постоянно подвержен недомоганиям. Шиллер тоже вечно был болен. Когда я с ним познакомился, мне казалось, что он и месяца не протянет [72]. Но и в нем была заложена известная цепкость. Он прожил еще много лет, а при более здоровом образе жизни продержался бы и дольше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: