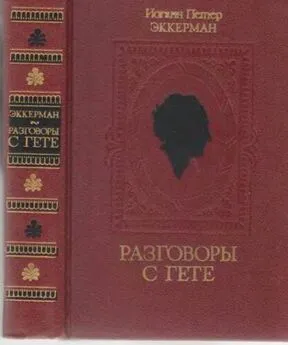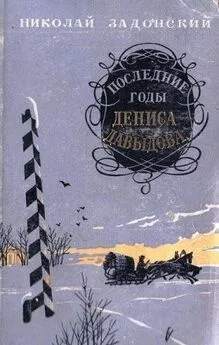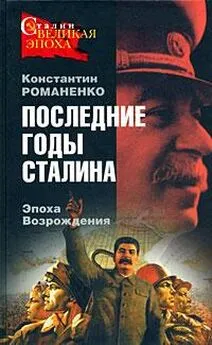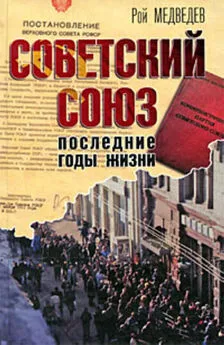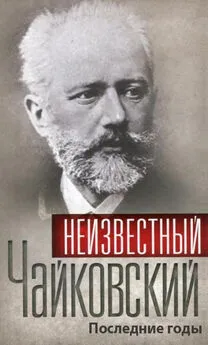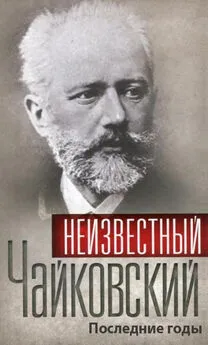Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
- Название:Разговоры с Гете в последние годы его жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни краткое содержание
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Разговоры с Гете в последние годы его жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пресловутая эпоха «Вертера», ежели хорошенько в нее вглядеться, обязана своим существованием, конечно же, не общему развитию мировой культуры, но тем свободолюбивым людям, которых жизнь вынуждает приноравливаться к ограничивающим формам устарелого мира. Разбитое счастье, прерванную деятельность, неудовлетворенные желания нельзя назвать недугом какого-то времени, скорее недугом отдельного человека, и как было бы грустно, не будь в жизни каждого поры, когда ему чудится, что «Вертер» написан для него одного.
Сегодня после обеда Гёте и я просматривали папку гравюр по картинам Рафаэля . Он часто обращается к Рафаэлю, чтобы сохранять общение с наилучшим и мыслить его высокими мыслями. Ему приятно вовлекать и меня в такие занятия…
Потом говорили о «Диване» , в первую очередь о «Книге недовольства», в которой он излил гнев на своих врагов, накопившийся у него в сердце.
— В общем-то я был очень сдержан, — сказал он, — скажи я все, что меня точило, что не давало мне покоя, и эти немногие страницы разрослись бы в увесистый том.
— Собственно говоря, — продолжал он, — мною никто никогда не был доволен, и все хотели видеть меня не таким, каким господу угодно было меня создать. Да и тем, что я писал, редко кто оставался доволен. Я годами работал, не щадя своих сил, чтобы порадовать людей новым произведением, а они еще требовали от меня благодарности за то, что находят его более или менее сносным. А уж если хвалили, то считалось, что я не вправе спокойно и с чувством собственного достоинства внимать их хвалам, но обязан произнести какую-нибудь скромную фразу, отклоняющую сию незаслуженную честь, смиренно признавая неполноценность как свою собственную, так и своего творения. Но это никак не вязалось с моей натурой, и я оказался бы последним негодяем, если бы стал так лгать и лицемерить. А поскольку я был уже достаточно силен, чтобы постоять за себя и за свою правду, то прослыл гордецом, коим слыву и доныне.
Что касается вопросов религиозных, научных и политических, то я и тут хлебнул немало горя, ибо не лицемерил и всегда имел мужество говорить все, что чувствовал.
Я верил в бога, в природу и в победу добра над злом; но нашим благочестивцам этого было недостаточно, мне еще следовало знать, что троица едина, а единое — трояко, но это шло вразрез с моим правдолюбием, вдобавок я не понимал, чем мне это может быть хоть сколько-нибудь полезно.
— Далее, мне сильно досталось за то, что я понял: Ньютоново учение о свете и цвете — ошибочно, да еще посмел оспаривать пресловутую догму. Я познал свет во всей его чистоте и правде и считал своим долгом за него вступиться. Противная же партия всерьез намеревалась его замутить, утверждая, что тень — частица света . В моей формулировке это, конечно, звучит абсурдно, но тем не менее это так. Ибо когда говорят, что цвета , по существу, являющиеся большей или меньшей затененностью, — это и есть свет или, что одно и то же, по-разному преломленные лучи света .
Гёте умолк, ироническая усмешка промелькнула на его величественном лице. Он продолжал:
— А политика! Сколько я и тут натерпелся, сколько выстрадал — словами не скажешь. Читали вы моих «Возмущенных» ?
— Не далее как вчера, — отвечал я, — в связи с подготовкой нового собрания ваших сочинений я прочитал эту вещь и от души пожалел, что она осталась незаконченной. Но, несмотря на это, любой благомыслящий человек, прочитав ее, присоединится к вашим убеждениям.
— Я писал ее во время Французской революции, — сказал Гёте, — в какой-то мере она является моим тогдашним символом веры. Графиня выведена у меня как представительница дворянства, словами же, которые я вложил в ее уста, я хотел выразить, как, по-моему, следовало бы мыслить дворянам. Графиня только что вернулась из Парижа, где стала свидетельницей революционных событий, из коих извлекла для себя полезный урок. Она убедилась, что народ можно подавлять, но подавить его нельзя, и еще, что восстание низших классов — результат несправедливости высших. «Отныне я буду стараться избегать любого несправедливого поступка, — сказала она, — и не колеблясь стану высказывать свое мнение о неправедных поступках других в обществе и при дворе. Не умолчу ни об одной несправедливости, пусть даже меня ославят демократкой».
— Я считал, — продолжал Гёте, — что подобный образ мыслей, безусловно, заслуживает уважения. Я и сам так думал и думаю до сих пор. За что меня и честят так, что я даже повторить не решаюсь.
— Достаточно прочитать «Эгмонта», — вставил я, — чтобы узнать ваш образ мыслей. Нет другого немецкого произведения, которое бы столь открыто ратовало за свободу, за раскрепощение народа.
— Многие, однако не желают считать меня таким, каков я есть, и закрывают глаза на все, что могло бы представить меня в истинном свете. А вот Шиллеру, который, между нами говоря, был куда большим аристократом, чем я, но и куда больше обдумывал свои слова, странным образом посчастливилось прослыть доподлинным другом народа. Я ему не завидую, себя же утешаю тем, что многим до меня приходилось не слаще.
Другом Французской революции я не мог быть, что правда, то правда, ибо ужасы ее происходили слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, а благодетельные ее последствия тогда еще невозможно— было видеть. И еще: не мог я оставаться равнодушным к тому, что в Германии пытались искусственно вызывать события, которые во Франции были следствием великой необходимости.
Я также не сочувствовал произволу власть имущих и всегда был убежден, что ответственность за революции падает не на народ, а на правительства. Революции невозможны, если правительства всегда справедливы, всегда бдительны, если они своевременными реформами предупреждают недовольство, а не противятся до тех пор, пока таковые не будут насильственно вырваны народом.
Поскольку я ненавидел революции, меня величали другом существующего порядка . Достаточно двусмысленный титул, отнюдь меня не устраивавший. Конечно, я бы ничего не имел против порядка разумного и справедливого. Но так как наряду со справедливым и разумным всегда существует много дурного, несправедливого и несовершенного, то «друг существующего порядка» почти всегда значит «друг устарелого и дурного».
Между тем время вечно движется вперед, каждые пятьдесят лет дела человеческие претерпевают изменения, и то, что было едва ли не совершенным в тысяча восьмисотом году, в тысяча восемьсот пятидесятом может оказаться никуда не годным.
Для каждой нации хорошо только то, что ей органически свойственно, что проистекло из всеобщих ее потребностей, а не скопировано с какой-то другой нации. Ибо пища, полезная одному народу на определенной ступени его развития, для другого может стать ядом. Поэтому все попытки вводить какие-то чужеземные новшества, поскольку потребность в них не коренится в самом ядре нации, нелепы, и все революции такого рода заведомо обречены на неуспех, в них нет бога, ибо участвовать в этой нелепице ему не пристало . Если же у народа действительно возникла потребность в великой реформе, то и бог за него, и удача будет ему сопутствовать. Бог был за Христа и первых его последователей — ибо впервые возникшая религия любви являлась тогда насущной потребностью народов. Был он и с Лютером, так как в Лютерово время люди уже стремились очистить это исковерканное попами учение. Но ведь вдохновители обоих этих мощных движений не были друзьями существующего. Напротив, они были убеждены, что надо вылить старую закваску, что не должно в мире оставаться столько неправды, несправедливости, порока,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: