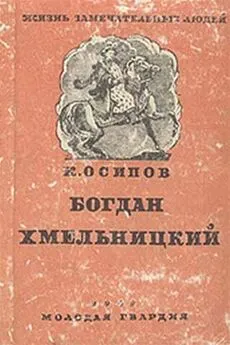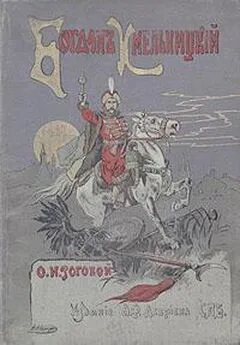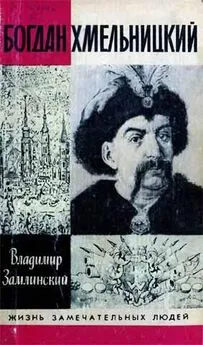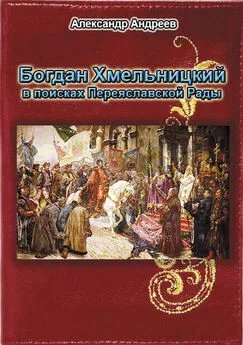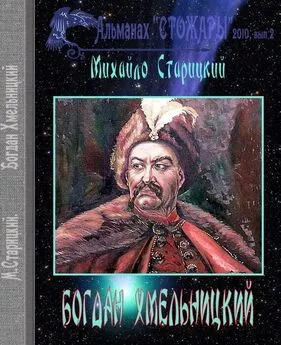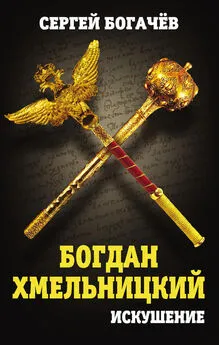К. Осипов - Богдан Хмельницкий
- Название:Богдан Хмельницкий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1948
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
К. Осипов - Богдан Хмельницкий краткое содержание
Книга рассказывает о знаменитом сыне украинского народа Богдане Хмельницком, с именем которого связана борьба за освобождение украинского народа от чужеземного ига и воссоединение Украины с Россией.
Издание второе, переработанное.
Богдан Хмельницкий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Козаки залегали в ямах и стреляли оттуда в неприятеля, укрываясь от его артиллерии. Перед своими шанцами они рыли небольшие углубления, расположенные густой сетью и препятствовавшие атакам польской конницы. Неоднократно козаки подводили и взрывали мины. Словом, они избрали метод войны, парализовавший техническое превосходство противника. Эта тактика явилась плодом коллективной народной мысли и коллективного военного опыта. Шляхтичи только дивились искусству, с которым сражались козаки. Злой враг украинского народа пан Окольский [50] Симон Окольский (1580–1653) — польский историк и проповедник. В походах 1637–1638 годов был полковым священником при Потоцком.
однажды заявил:
— Хотя между козаками нет ни одного князя, ни сенатора, ни воеводы, но есть между ними такие хлопы, что если бы не законы contra plebejos (против плебеев), то нашлись бы столь достойные, что их следовало бы признать равными Цинцинатам и Фемистоклам.
И все-таки Остряница был разбит. Его место занял талантливый вождь Дмитро Гуня. Организованная им упорная оборона позволила козакам избежать совершенного разгрома. Но их положение все же очень ухудшилось: согласно «Ординации 1638 года», объявленной козакам на раде в урочище Маслов Брод, реестр был сведен к шести тысячам, а все не вошедшие в него лишались звания козаков и связанных с этим привилегий. Но и реестровые были поставлены в очень тяжелые условия: они потеряли свое самоуправление; высшие должности в их войске должны были отныне замещаться польскими шляхтичами по назначению властей; сами козаки могли избирать только низшую старшúну. Никто не имел права итти без разрешения польского комиссара в Сечь; пойманного ждала смертная казнь. Категорически запрещались морские походы и т. д. На той же раде к ногам польских комиссаров были повергнуты, с целью унизить козаков, их регалии: хоругви, булавы и прочее.
Восстания в тридцатых годах окончились неудачей оттого, что козаки действовали недостаточно сплоченно, а главное — не сумели поднять за собой крестьянство.
Победители вновь прибегли к своему излюбленному средству — бесчеловечному террору.
— Я из вас восковых сделаю! — кричал Потоцкий, уставляя путь виселицами и устилая его телами засеченных.
«Культурная» шляхта пыталась посредством хитроумных софизмов оправдать свои варварские методы борьбы. Один из аргументов заключался в том, что вследствие козацких восстаний уничтожено много продуктов цивилизации. Но при этом паны и шляхта умалчивали о характере польской цивилизации: неразрывно связанная с рабовладением, эта цивилизация предоставляла все блага одному сословию за счет жизненных интересов широких масс, тем самым способствуя деградации всего общества.
Другой аргумент носит явно казуистический характер.
«Мы не совершаем никакой несправедливости по отношению к хлопам, — доказывали умудренные в иезуитских коллежах шляхтичи, — так как несправедливость может иметь место лишь относительно тех, кого мы подчиняем себе против воли. Но нет несправедливости там, где отдаются под власть добровольно. А долговременное терпение крестьян показывает, что они повинуются нам не против воли».
Только иезуиты могли назвать терпением и покорностью бесконечную серию восстаний, кровавую борьбу за свои права, которую упорно вел украинский народ.
Украинский народ доказал, что слово «раб» не может быть применено к его сынам. Поколение за поколением стремилось к свободе, неустанно вело неравную борьбу, предпочитало опасность и мучительную смерть позорному игу иноземцев.
В этой борьбе народ доказал и другое: наиболее активная часть его, козачество, которое представлялось на первый взгляд лишь страшной разрушительной силой, таило в себе и огромную творческую энергию, не находившую себе путей. Освоение девственной степи являлось лучшим тому доказательством.
Регулярные части польской армии потопили в крови восстание Остряницы, как они топили все предыдущие. «Козацкая гидра» была придушена, но она не была, да и не могла быть задушена совсем. Слишком много было горючего материала, слишком много притеснений и мучений испытал украинский народ и слишком свободолюбив он был.
Не требовалось особой дальновидности, чтобы понять, что в скором времени неминуем новый взрыв, страшнее предыдущих. Все былые обиды, накапливаясь, подготовляли этот взрыв. Не могло быть сомнений, что — на берегах ли Днепра, на берегах ли Буга — вспыхнет новое восстание, обусловленное всем ходом векового исторического процесса. Не могло быть, конечно, сомнений и в том, что на гребень волны будет вынесен новый вождь, что в недрах народа, столь богатого энергичными и даровитыми натурами, найдется человек, который сумеет справиться с выпавшей на его долю исторической ролью.
Таким человеком оказался Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий.
VI. ЧИГИРИНСКИЙ СОТНИК
В истории не сохранилось достоверных известий о происхождении человека, с именем которого связано одно из самых мощных, ожесточенных и героических народных движений.
Если верить автору «Истории Русов», Богдан происходит из довольно знатного рода; восприемником его был князь Сангушко. Но это вызывает сомнения. Автор специального исследования о происхождении Хмельницкого И. Каманин [51] И. Каманин. Догадка о происхождении Богдана Хмельницкого из среды киевских мещан, «Чтения в историческом обществе Нестора Летописца», 1898, кн. 12. стр. 15–19.
указывает, что в люстрации Киевского замка 1552 года упоминается Богдан Хмелевич, спустя восемьдесят лет — киевский мещанин Богдан Хмель, торговавший хлебом, затем его родственник Никифор, который, несомненно, состоял в родстве с гетманом Хмельницким, доказательством чего служит хотя бы то обстоятельство, что в Киево-Печерской лавре поминали и Никифора среди родных гетмана. Сам Богдан Хмельницкий нередко называл себя Хмелем. Имя Богдан было обычным в этом роду. Словом, на основании ряда соображений И. Каманин приходит к выводу, что Богдан Хмельницкий происходит из киевских мещан.
С другой стороны, историк В. Антонович утверждает, что семейство Хмельницких принадлежало к бедной служилой шляхте Волынского воеводства; в актах мы встречаем Петра Хмельницкого, слугу пана Подгорецкого, бежавшего тайно от своего господина, а также «урожоного Яна Хмельницкого, в воеводстве Волынском и поветах его не оселого и поземельной собственности не имеющего» [52] В. Антонович. Исследование о козачестве по актам 1500–1647 годов. Киев, 1863.
.
В недавнее время украинский историк, профессор Н. Петровский (М. Петровський) высказал мнение, что родина Богдана — город Переяслав [53] Ныне Переяслав-Хмельницкий, районный центр Киевской области.
. Однако аргументацию этого взгляда нельзя признать достаточной. Н. Петровский выдвигает такие доводы: «Богдан женился на переяславке Анне Сомковой; крестник Богдана, Тетеря, был родом из Переяслава; князь Заславский называет Хмельницкого переяславским козаком; в переписи 1649 года есть сообщение о дворе Хмельницкого в Переяславе» [54] Нариси з історії України. Вып. IV. М. Н. Петровський. Визвольна війна українського народу проти гніту шляхетськоі Польші і приуднання України до Россїї. Киів, 1940.
. Эти доводы трудно счесть убедительными. Женитьба на переяславке розным счетом ничего не обозначает: разве женятся обязательно на землячках? К тому же, если верить Костомарову, Хмельницкий уже в ранней молодости бегал в Сечь и женился, вернувшись оттуда. Но по возвращении из Сечи он мог поселиться не в родном городе. Аналогично обстоит дело с Тетерей: можно стать крестным отцом, временно проживая в данном месте или даже находясь в нем наездом. Такие аргументы носят характер скорее домыслов, чем доказательств. Конечно, и домыслы играют свою полезную роль, но им нельзя приписывать значения достоверности. Наиболее веским представляется последний аргумент Н. Петровского, в основе которого лежат данные переписи 1649 года. Однако он решительно расходится с данными, приведенными в только что названных работах Каманина и Антоновича, из которых первый ссылается на киевские люстрации, а второй на волынские акты. Таким образом, хотя мнение Н. Петровского и заслуживает внимания, но принять его как окончательное пока нельзя.
Интервал:
Закладка: