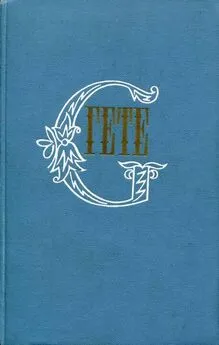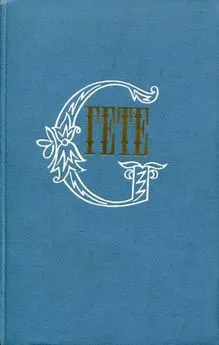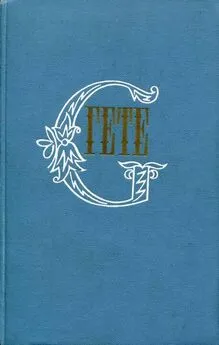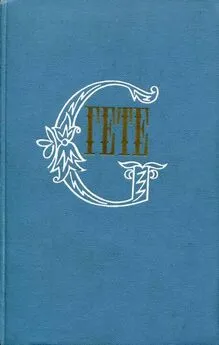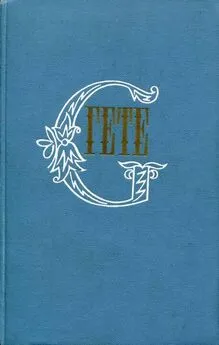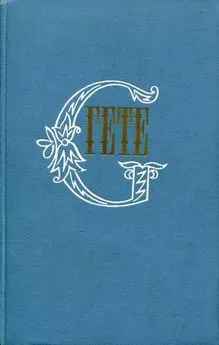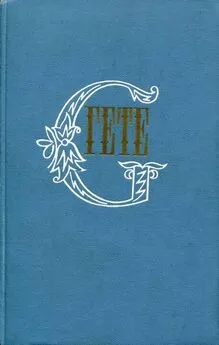Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда краткое содержание
«Поэзия и правда» — знаменитая книга мемуаров Гете, над которой он работал значительную часть своей жизни (1810–1831). Повествование охватывает детские и юношеские годы поэта и доведено до 1775 года. Во многих отношениях «Поэзия и правда» — вершина реалистической прозы Гете. Произведение Гете не только знакомит нас с тем, как складывалась духовная личность самого писателя, но и ставит перед собой новаторскую тогда задачу — «обрисовать человека в его отношении к своему времени».
Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Из моей жизни: Поэзия и правда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такого юношу неминуемо должны были увлечь произведения Руссо: «Эмиль» был его настольной книгой, взгляды, там высказанные и покорившие весь образованный мир, для него оказались тем более плодотворными. Ведь и он был дитя природы, и он начал с низов. Никогда он не владел тем, от чего другим предлагалось отречься; житейские обстоятельства, из которых другие должны были искать выхода, никогда его не теснили, и потому он мог почитаться чистейшим апостолом этого евангелия природы. Принимая во внимание свои серьезные помыслы, свое поведение образцового человека и сына, он был бы в полном праве воскликнуть: «Все хорошо таким, каким оно выходит из рук природы!» Но и возглас: «Все становится хуже в руках человека!» — мог бы вырваться у него, навязанный горьким житейским опытом. Бороться ему пришлось не с собой, но с внешним миром, с миром традиции, из оков которой нас стремился освободить гражданин Женевы. А так как в положении нашего юноши вести эту борьбу подчас бывало горько и трудно, то он волей-неволей все глубже замыкался в себе, что, разумеется, не могло в нем развить ни жизнерадостности, ни легкости характера. Ничто само не давалось ему в руки, все приходилось брать бурным натиском. Так закрался в его душу оттенок горечи; впоследствии он иногда питал и пестовал эту горечь, но чаще боролся с нею и ее побеждал.
В его произведениях, насколько они мне известны, мы сталкиваемся с суровым разумом, со здравым смыслом, с живым воображением, острой наблюдательностью по отношению к человеческой разноприродности и характерным изображением типических различий. Его девочки и мальчики милы и непринужденны, юноши исполнены страсти, мужчины разумны и прямодушны; отрицательные образы не окрашены сплошной черной краской. Ему присущи веселость и благодушие, остроумие и иной раз на редкость счастливые озарения; искусно пользуясь аллегориями и символами, он умеет забавлять и радовать читателя, однако это наслаждение было бы еще чище, не сдабривай он там и сям свои веселые и весомые шутки горечью мизантропии. Но это-то и делает его тем, что он есть, и потому, вероятно, так многообразны люди, живущие и пишущие, что каждый из них в теории непрестанно колеблется между познаниями и заблуждением, на практике же — между одушевлением и изничтожением.
Клингер принадлежал к тем людям, которые идут к миру от своего внутреннего «я», от своего разума и своей души. Таких, как он, было немало, и все они во взаимном общении пользовались понятным, сильным и выразительным языком, порожденным как бы самой природой и народной самобытностью, а потому им, рано или поздно, неминуемо должны были опротиветь все школьные правила, и в первую очередь те, что, оторвавшись от вечно живого первоисточника, вылились в пустую риторику, тем самым утратив свою свежесть, изначальное значение. Такие люди обычно восстают не только против новых мнений, взглядов, систем, но и против новых свершений и выдающихся деятелей, провозвестников или организаторов больших исторических перемен: этот образ действия нельзя им поставить в вину, ибо они отчетливо видят угрозу, гибельно нависшую надо всем, чему они обязаны своим становлением и существованием.
Такой стойкий и целеустремленный характер тем более заслуживает уважения, если он сохраняется среди превратностей светской и деловой жизни и если действенное отношение к происходящему, которое кое-кому, возможно, покажется резким и жестоким, своевременно проявленное, будет способствовать достижению цели. Так было и с Клингером; не будучи гибким от природы (гибкость никогда не принадлежала к добродетелям уроженцев и граждан имперского города), но зато тем более деловитый, непреклонный и честный, он возвысился до весьма значительных должностей, сумел удержаться на них и продолжал свою деятельность, пользуясь одобрением и милостями своих высоких покровителей. Но при этом он никогда не забывал ни своих старых друзей, ни пройденного им нелегкого пути. Более того, он стремился сохранить память о былом вопреки продолжительности разлук и дальности расстояний; не могу не упомянуть, что он, как другой Виллигис, не погнушался увековечить в своем гербе, украшенном орденскими знаками, предметы, указывающие на его прежнее гражданское состояние.
В скором времени я свел знакомство еще и с Лафатером. Некоторые места из «Письма пастора своему коллеге» очень его заинтересовали, ибо многое в них полностью совпадало с его убеждениями. При его неустанной деятельности наша переписка быстро сделалась весьма оживленной. В это время он как раз занимался собиранием материалов для своей большой «Физиогномики», с введением в каковую еще раньше ознакомил публику. Он всех заклинал посылать ему рисунки, силуэты, но в первую очередь изображения Христа, и хотя я ничем не мог быть ему полезен, он все же требовал, чтобы и я нарисовал для него Спасителя таким, каким он мне представлялся. Эти требования невозможного послужили мне поводом для разных шуток; не зная, как защититься от его чудачеств, я счел за благо противопоставить им свои собственные.
Большинство не верило в физиогномику или, по крайней мере, считало ее штукой ненадежной и обманчивой, но и те, кто с доверием относился к Лафатеру, любили его поддразнить или сыграть с ним какую-нибудь шутку. Лафатер заказал одному франкфуртскому очень недурному художнику профильные портреты нескольких известных людей. Тот позволил себе подшутить над своим заказчиком и вместо моего портрета отправил ему портрет Бардта; вскоре во Франкфурт прибыло бодрое, хотя и разносное послание — Лафатер шел прямо с козырей, доказывая, что это не мой портрет, далее приводилось решительно все, что можно было привести при такой оказии для возвеличения физиогномики. Мой настоящий портрет, посланный вслед за упомянутым, он принял снисходительнее, хотя и в этом случае не обошлось без пререканий, в которые он обычно вступал не только с художником, но и с оригиналом. Первые, по его мнению, работали недостаточно точно и правдиво, вторые, при всех достоинствах, которые у них иной раз были, все же оказывались намного ниже идеи, составленной им о человечестве и человеке, и потому не удивительно, что характерное в них, — другими словами, то, что делает отдельного индивидуума личностью, — в какой-то мере отталкивало его.
Понятие о человечестве, сложившееся у Лафатера в соответствии с его собственной человеческой сутью, было так родственно его живому представлению о Христе, что ему казалось непостижимым, как может человек жить и дышать, не будучи христианином. Я же воспринимал христианскую религию только мыслью и чувством, о физическом же родстве с нею, которое так живо ощущал Лафатер, я и понятия не имел. Поэтому я досадовал на ту назойливую страстность, с которой этот умный и сердечный человек нападал на меня, на Мендельсона и многих других, утверждая, что надо либо быть христианином, таким, как он, либо уж переманить его на свою сторону — иными словами, убедить его в том, что является умиротворением для душ его противников. Это требование, стоявшее в прямом противоречии с теми либеральными воззрениями, которые я мало-помалу усвоил, произвело на меня довольно неприятное впечатление. Все потерпевшие неудачу попытки обращения делают избранного на роль прозелита только более упорным и замкнутым. Так было и со мной, тем паче когда Лафатер стал подступаться ко мне с жесткой дилеммой: «Либо христианин, либо атеист». В ответ я заявил, что если ему не угодно оставить меня при моем христианстве (как я доселе его понимал), то я, пожалуй, склоняюсь в сторону атеизма, тем более что никто, видно, толком не понимает, что подразумевается под тем и под другим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: