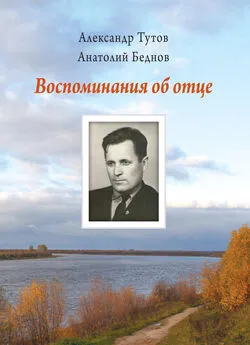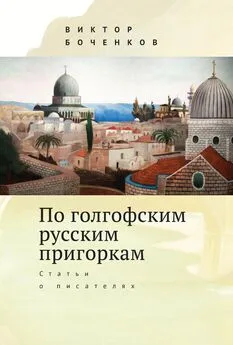Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания
- Название:И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ГУП Газетное издательство Периодика Кубани
- Год:2003
- Город:Краснодар
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания краткое содержание
И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
За фотографии много благодарю! Одну окантовал и повесил в кабинете.
Но особенно поразительная — со Смилгой, со свечкой. Откуда Вы их раздобычи?
Привет Вам и еще раз спасибо!
26. XI. 80. Москва Юрий Трифонов».
Письмо как будто даже не имеет отношения к теме моей статьи, но… привести его следовало по той причине, что оно имеет прямое отношение к нашим судьбам, к нашим метаниям и ожиданиям, к нашей нелегкой и, кажется, в чем‑то опасной работе. А все дело в том, что в начале 1981 года Ю. В. Трифонова пригласили на «небольшое обследование» в клинику, затем положили на «небольшую операцию», и он скончался на операционном столе. В 56 лет, с виду совершенно здоровый человек, переживающий «другую жизнь» с молодой женой.
Да. Ждали мы с женой в январе, потом в феврале 1981 года желанной бандероли из Москвы, а дождались «Литературной газеты» в марте, кажется, с траурными полосами — обрамлениями: безвременно ушел из жизни видный писатель Ю. В. Трифонов, кумир московской интеллигенции, но… к тому же и первооткрыватель запретных тем в литературе…
И я, грешник, подумал, что не все чисто в этом мире и что не случайны все эти совпадения: огромный успех «Старика», масса разговоров о подробностях гражданской войны, намеки на какую‑то «Директиву»… Не захватил ли как‑то краем писателя давний «отблеск костра»?..
И на память пришли некрасовские строки: «Братья писатели! В вашей судьбе что‑то лежит роковое!..».
К 1982 году уже более двух третей своего романа я опубликовал частями в альманахе «Кубань», в местных газетах, а также в «Новороссийском рабочем». Тема, таким образом, была основательно «застолблена» на будущее, к ней в крае привыкли, даже начальство понукало к продолжению публикаций, не зная о содержании тех глав, которые мною пока задерживались, и ожидая, вероятно, заполучить в конце концов что‑нибудь вроде «Кочубея» или «Чапаева»… Можно было бы попытаться издать роман полностью в Краснодаре. Но… как избежать консультаций в ИМЛ и его филиалах?
И тогда я обдумал некий стратегический план публикации в обход всевидящего ока тех, кому роман и сама тема его становятся поперек горла…
Издательство «Молодая гвардия» проводило перманентно продлеваемый литконКурс имени Николая Островского. Секретарем конкурсной комиссии был симпатизирующий мне редактор Дмитрий 3., которому я привез на конкурс первый том (опять — «первый»!), предусмотрительно сменив название на «Красные дни»,
чтобы не запеленговали литстукачи от ИМЯ и не заблокировали вторично. Дмитрия 3. я просил дать роман на авторитетное рецензирование, а на премии (возможные) или для издания не продвигать. Мне нужны рецензии, московские желательно — с грифами издательства «Молодая гвардия», и только.
Но ожидал и меня опасный жизненный поворот. Видимо, от длительного творческого перенапряжения я в октябре 1982 года перенес тяжелый инфаркт. Сказалась и длительная травля местных графоманов, поощряемая известной агентурой из крайкома КПСС. Дело в этом смысле дошло до того, что многоуважаемое бюро писательской организации, пользуясь моей болезнью, никак не отметило в печати мое 60–летие в 1983 году, а заготовленные в бюро пропаганды художественной литературы юбилейные буклеты «А. Знаменскому — 60» оказались не разосланными по издательствам и организациям и… лежат кипой у меня до сих пор… Таковы нравы и такова, как говорится, жизнь «известного писателя».
Так или иначе, но выздоровление мое сильно затянулось, преследовали гипертонические кризы, и только в 1984 году я, с помощью жены — спутницы, смог снова выбраться на отдых в Москву и попутно в издательство «Молодая гвардия».
Секретарь комиссии (конкурса) был на месте, встретил радушно и, усадив за отдельный столик, дал папочку с рецензиями на «Красные дни». Там было три отзыва: профессора — историка Н. Н. Яковлева, писателя (бывшего секретаря Шолохова) Ф. Ф. Шахмагонова и еще одного доцента МГУ, фамилии которого теперь уже не помню.
Мы с женой бегло просматривали одну рецензию за другой и глазам своим не верили: никогда ни на одну из моих книг (а их было уже около двух десятков) не было столь высоких, прямо сказать, блестящих и притом единодушных отзывов, как на этот раз. Бог, что ли, смилостивился к немощному от болезни автору, но рецензенты будто соревновались в высоких оценках.
Ф. Ф. Шахмагонов:
«Если говорить о художественной литературе, посвященной гражданской войне, то надо признать, что тот ее пласт, которого коснулся Анатолий Знаменский, давно звал к себе и исследователей, и художников. (…) В мою бытность секретарем Михаила Шолохова в 50–х годах к нему начали поступать очень серьезные запросы читателей. Михаил Шолохов не ставил перед собой задачи создания исторической монографии или исторической хроники. Поэтому он и не возвращался к тексту (начала 30–х годов), не вносил тех переделок, которые ему предлагались. Исторические неточности и в малом, и в большом как бы отошли в сторону, затушевались художественными достоинствами романа. (…).
История гражданской войны на Дону давно требовала пересмотра и некоторых фактов, и, конечно лее, концепции «донской Вандеи». Анатолий Знаменский взялся за это нелегкое дело, поднялся на редкостный в наше время писательский подвиг — резать поперек ложных взглядов на донские события…
Знаменский создал роман — хронику, он выбрал единственно возможный жанр для решения своей задачи — показа подлинной исторической роли казачества, для восстановления исторической правды…
Роман — хроника — сложное, многоплановое, полифоническое произведение, написано на одном дыхании, с большим мастерством, его историческая основа покоится на неопровержимых документах, его действующие лица, исторические лица выписаны убедительно, достоверно. Я уверен, что издание романа А. Знаменского явится крупным событием для советской литературы».
Н. Н. Яковлев:
«…Вероятно, М. Шолохов в «Тихом Доне» был первым, кто попытался приоткрыть завесу недомолвок, наброшенную на верхнедонское восстание… М. Шолохов поставил вопросы, но в силу определенных обстоятельств не смог дать на них полные ответы. Оно и понятно: помимо прочего, ему приходилось обозревать происходящее на Тихом Дону с учетом того, что писал, например, «в исторической записке Ленину товарищ Сталин», или указывать на «последствия пораженческого плана Троцкого».
А. Знаменский в наше время имеет возможность сказать больше, полнее, воздав должное Ф. К. Миронову, салю имя которого во времена сталинщины находилось под запретом…»
Пока мы читали и третью рецензию примерно такого же содержания, Дмитрия 3. зачем‑то вызвал к себе заведующий редакцией. Отсутствовал он долго, а когда возвратился, то на нем, как говорится, лица не было. Он как‑то потерянно махнул рукой и положил передо мной форменную бумагу с грифом издательства. Потом отошел к фортке и закурил нервно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
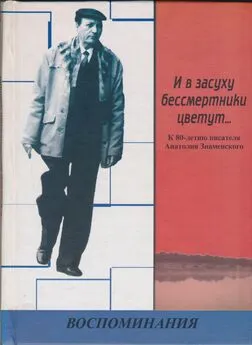

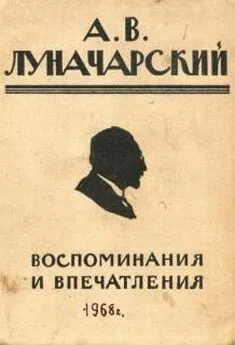
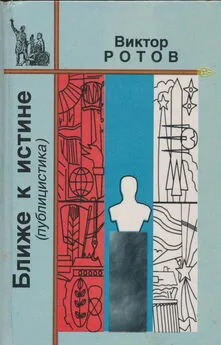
![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)