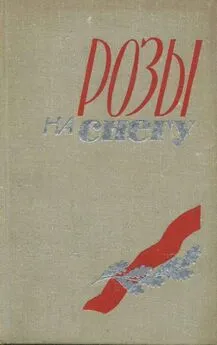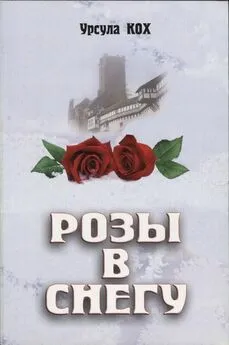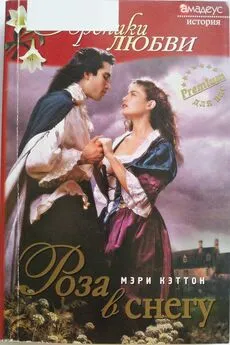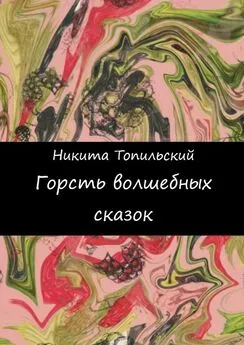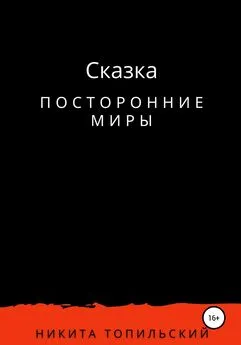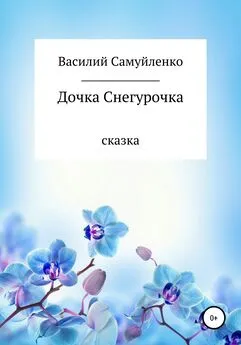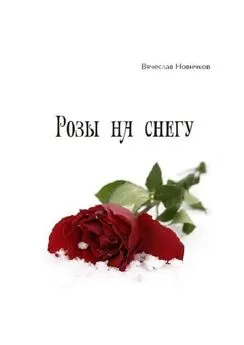Василий Топильский - Розы на снегу
- Название:Розы на снегу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1973
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Топильский - Розы на снегу краткое содержание
Жестоким смерчем обрушилось на Европу фашистское нашествие. Пепел и слезы, кровь и руины оставались там, где прошли полчища гитлеровцев.
В воскресный солнечный день 22 июня 1941 года мутный нацистский поток хлынул и на территорию нашей Родины. Везде, где ступала нога оккупантов, вспыхивали очаги сопротивления: зажигали костры в лесах партизаны, действовали подпольщики. Многие из них погибли, но не дрогнули, не согнулись под пытками.
Был свой незримый фронт и в битве за Ленинград. Он проходил по берегам Плюссы и Шелони, Волхова и Великой. Явки его бойцов были в Луге и Острове, в «столице» озерного края далеком Себеже, в избах осьминских колхозников.
В этом сборнике рассказывается о малоизвестных и неизвестных подвигах наших разведчиков, подпольщиков и партизан в годы Великой Отечественной войны.
Розы на снегу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первая очередь скосила ползущих справа, вторая обратила в бегство крадущихся слева.
— Спасибо, Игорь! — крикнул сквозь шум боя Николай.
И сразу же засверкал станкач, за которым лежал сам комбриг. Точный огонь разил гитлеровцев. Партизаны отошли и заняли удобные позиции на холмах.
Солнце клонится к западу. Накал боя нарастает. Лихорадочно бьют минометы. Ударили орудия. Не успел развеяться дым — сотни карателей бросились на приступ. Тщетно! Полчаса затишья, и опять на холмах кустятся разрывы. После ожесточенного минометного огня психическая атака… Лощина покрывается трупами «психов». Точен прицельный огонь партизан. На третий остервенелый штурм холмов «красный десант» отвечает контратакой..
Дотемна шумел боем Алольский бор. Отступили каратели. Радость победы юных героев омрачена — от пули фашистского снайпера погиб любимый комбриг. Молча исчезают они с позиций. Рейд продолжается…
Были еще бои, еще диверсии на дорогах. Затем выход в советский тыл на отдых и переформирование. И тут Глинского подкараулила коварная болезнь — после ранения вновь отказали ноги… Госпиталь в Старой Торопе. Медленное выздоровление. А когда поправился — боевых друзей не было. Опять ушли в рейд.
В конце 1942 года Глинский попал в действующую армию. О тех днях сохранилось два коротких письма Игоря матери и отцу. Первое датировано 22 декабрем:
«Здравствуй, милая мамочка! Я на передовой, тепло одет, жив и невредим. Крошу немчуру. Командир отделения. Писать некогда, ни одной свободной минуты. Целую, Игорь».
Второе отправлено 29 декабря:
«Здравствуй, дорогой папа! Я с огромной радостью получил твою первую весточку, открытку, которую ты писал 18 декабря. Я тоже уже месяц на передовой и, наверное, недалеко от тебя. У меня тоже адрес начинается с «14». Желаю быть здоровым, крепче бить фашистских гадов. Твой сын Игорь».
На вахту заступил год 1943-й. Над смоленскими деревнями по-прежнему мела свинцовая метель. В первый день нового года советские воины продолжали наступать — выбивали фашистов с древней русской земли.
Поднял в атаку своих бойцов и сержант Игорь Глинский. С возгласом «За Родину!» бросился вперед и упал… Замолчал навсегда «партизанский маузер».
Сумерки над берегом сгущаются,
Тишина на Лидовой горе.
Звезды над Двиною зажигаются,
Отражаясь в водном серебре.
Постоим у памятника воинам,
Что в боях за город наш легли…
Эти стихи записаны в городе Велиже, где в братской могиле покоится прах Игоря Глинского.
Юрий Кринов
«ЧТО ВИДЕЛА, ВОСТРОГЛАЗАЯ?»
Мы ехали в пригородном автобусе в Петрокрепость. Справа катила волны Нева. Мелькали поселки. Понтонная, Ивановское, Отрадное…
Мой сосед, пожилой мужчина, неотрывно смотрел в окно.
— Знакомые места? — спросил я его.
— Да. Воевал здесь.
Разговорились.
— Под Ленинградом я был недолго, — неторопливо рассказывал Николай Ильич Тебеньков. — Случилось так, что наш батальон попал в окружение. Пройти через линию фронта не смог. В лесах встретился с партизанами, да так с ними и остался.
Николай Ильич замолчал, отвернулся к окошку. Видно, какие-то воспоминания растревожили его.
Песчаные карьеры закрыли берега Невы. Следующей остановкой было Павлово — небольшой рабочий поселок.
— Вот видите, как бывает, — неожиданно оживился Тебеньков. — Десятки раз проезжал через Павлово и не знал, что здесь живет наша разведчица Женя Афанасьева — Евгения Петровна Егорова теперь.
1
Вскоре я вновь побывал в Павлове. В клубе завода вручали юбилейные медали ветеранам войны. Зал был полон.
Награжденных было много, и секретарь парткома, не ожидая, пока в зале наступит тишина, называл очередные фамилии: «…Дмитриев Николай Петрович… Егорова Евгения Петровна…»
Откуда-то из задних рядов, вслед за грузным мужчиной в кителе военных лет, поднялась женщина. Хрупкая. Невысокого роста. Тонкий профиль. И даже серебристые ниточки в смоляных волосах не старили ее.
«Неужели та самая разведчица, о которой говорил Тебеньков?» — мелькнула у меня мысль.
В перерыве я подошел к ней:
— Евгения Петровна Егорова?
— Да! Откуда вы знаете меня?
Я рассказал о моем случайном разговоре с Тебеньковым. Глаза ее потеплели.
— Ой! Что ж мы стоим? Идемте присядем.
Мы отыскали свободный диванчик у окна и сели.
— Так вы познакомились с Николаем Ильичом? А знаете ли, что это за удивительный человек? А о нашем командире Дмитрии Васильевиче Худякове слыхали?
— Может быть, вы и о себе расскажете, — попросил я Евгению Петровну.
— О себе?!
— Ну да. Как вы, скажем, жили до войны?
— Жили мы здесь же, в Павлове. У отца был свой домик и куча нас, ребятишек. Жили хорошо. Дружно. Росли. Учились. У старшей, Варвары, уже своих четверо стало. Брат в армии служил. Я седьмой класс кончала…
Где-то заиграла радиола, и молодежь потянулась на танцы. Евгения Петровна посмотрела на нарядных девушек, вздохнула, поправила прическу.
— И все рухнуло. За какой-то месяц, — продолжала опа глуховатым голосом. — Осенью сорок первого фашисты были уже в Павлове. Оставили мы под яблонькой в саду могилки отца, сестер, племянников и подались в Отрадное. Мать, Шура, Валя и я. Потом нас гнали дальше. Куда? Зачем? Никто не знал. Мы шли от деревни к деревне, пока не попали в Крутцы. Дальше двигаться не могли. Сил не было.
Зимой 1942/43 года 3-я Ленинградская партизанская бригада вела непрерывные бои в Славковском, Сошихинском, Пожервицком районах. Молва о партизанских делах дошла и до Крутцов. Говорили разное. Будто много их. А вслед за партизанами идет Красная Армия. Женя часто донимала сестру:
— Валь, а какие они? Небось бородатые…
— Не знаю.
— На конях, наверное?.
— Может быть.
Часто Женя думала: «Кончится война, спросят: что я делала эти годы? Ждала наших. А другие, скажут они, боролись с врагом. Хорошо бы к своим уйти».

Евгения Егорова.
Но уходить было некуда. На руках больная мать. И наутро начиналось все снова: искать, что сварить на обед, где-то раздобыть дров… Но вот однажды вечером к Афанасьевым прибежала Женина подружка:
— Женя дома?
— Зачем тебе она на ночь-то глядя? — сердито спросила мать.
Женя услышала голос Нины и выскочила в сени.
— Одевайся. В школе собрание. Партизаны приехали.
Накинуть старый полушубок, всунуть ноги в разбитые валенки — минутное дело.
В натопленном классе народу набилось полно. Сидели на уцелевших партах, на подоконниках, на колченогих табуретках и прямо на полу. Возле классной доски стол, накрытый кумачом. За столом трое в кубанках с красными ленточками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: