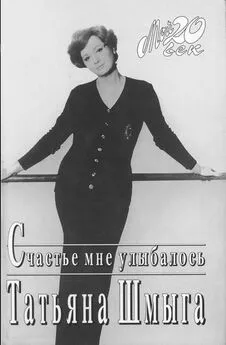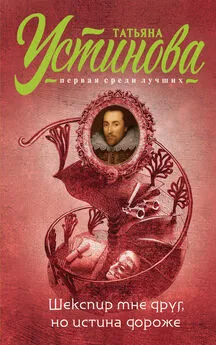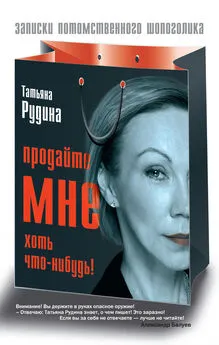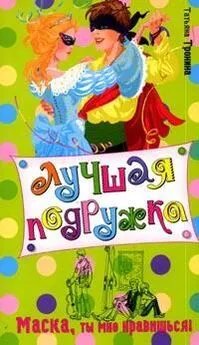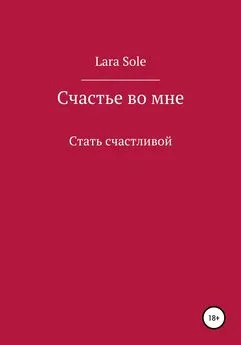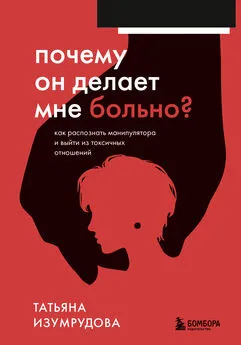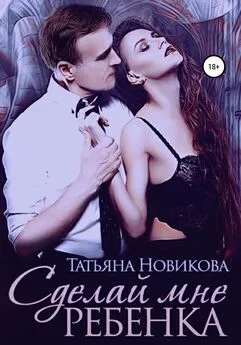Татьяна Шмыга - Счастье мне улыбалось
- Название:Счастье мне улыбалось
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00510-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Шмыга - Счастье мне улыбалось краткое содержание
Татьяна Ивановна Шмыга родилась в Москве, училась в Музыкально-театральном училище им. Глазунова, потом в ГИТИСе. В 1953 году поступила в Московский театр оперетты, где и работает до сих пор. Скромная Тоня и ослепительная Чанита; нежная Любаша и суровая товарищ Любовь; Лидочка из Черемушек и Нинон из Парижа; великая актриса Джулия и уличная цветочница Элиза… И еще целая череда женских образов и судеб, таких разных, таких неповторимых, объединенных только одним: душу в них вдохнула Татьяна Шмыга. Многие называют оперетту "легким", несерьезным жанром. Но многие ли знают, что стоит эта "легкость" актрисе, сколько труда, пота, а порой и слез скрывается за изящной арией и головокружительным каскадом? И все же актриса не променяет свою профессию ни на какую другую. Ведь она дарит зрителю ни с чем не сравнимое наслаждение, которое зовется — оперетта. Оперетта — уникальный жанр, предъявляющий своим артистам уникальные требования: петь, как оперный певец, танцевать, как солист балета, играть, как драматический актер. При этом обладать эффектной внешностью и неотразимым обаянием. Именно этот сплав и рождает примадонну. А неоспоримой примой российской оперетты вот уже несколько десятилетий остается Татьяна Шмыга. Впрочем, сказать о ней "примадонна" — мало, она символ, живое олицетворение оперетты. Каждый вечер она проживает на сцене целую жизнь. И только об этом можно было бы написать большую, интересную книгу. Но "Счастье мне улыбалось" — это не просто воспоминания актрисы. Это история Театра оперетты второй половины XX века, рассказ о его взлетах и падениях, горестях и радостях, а главное — о его людях, которые не уйдут в забвение во многом благодаря книге Татьяны Шмыги.
Литературная запись А. М. Даниловой
В книге использованы фотографии РИА-Новости, Г. Гладштейн, Л. Педенчук, из музея театра «Московская оперетта» и из личного архива автора
Дизайн серии Е. Вельчинского
Художник Н. Вельчинская
Счастье мне улыбалось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но возвращаюсь к своей поездке в Киев. Я познакомилась с мамой Рудика и просто влюбилась в нее. И не только потому, что она чем-то напоминала мне мою маму. Она приняла меня как родную. Это очень редкий случай, чтобы будущая свекровь так расположилась к избраннице своего сына. А ведь Рудик у нее был единственный, он был для нее всем, она его просто обожала. Тем более удивительным было ее теплое ко мне отношение. Может, она в свое время мечтала иметь и дочь? Не знаю…
Звали мою свекровь Мария Александровна — это по-русски, а на самом деле она Ядвига Войцеховна, полька. Была она женщиной маленькой, неброской, но с каким-то особым очарованием, как говорят, с изюминкой. И было в ней много человечности, доброты, хотя она и строгой бывала. Мария Александровна давно жила в России, когда-то была замужем за русским фабрикантом, и потому ее давно уже все называли Марией Александровной. Овдовев, она вышла замуж за отца Рудика. Колоритный мужчина, даже мужик — большой, крепкий, шумный, прямо-таки «батько», и в отличие от жены без особых манер. «Батько» Андрей Борецкий работал кем-то в одном из киевских театров. Помню, он хорошо умел готовить настоящий украинский борщ.
Мария Александровна считалась одной из лучших портних в Киеве. Заказов у нее было много, и она шила, шила, сидя порой за швейной машинкой и по ночам. По сути дела, эта хрупкая женщина кормила семью. Но одно дело шить посторонним, и совсем другое — шить своему человеку. И будущая свекровь принялась наряжать меня. Помню, как я стеснялась этого — впервые попала в чужую семью, и сразу для меня сшили столько красивых платьев. И свадебное платье из белого шифона, естественно, тоже сшила Мария Александровна.
Свадьба наша была в Химках, на даче, которую мы снимали в течение многих лет. Там была липовая аллея, вот под этими липами и поставили столы. Было очень весело. Гостей собралось много: приехали из Киева родители Рудика, пришло много народу из театра — и молодые мои подружки, и кое-кто из «стариков», в том числе и Серафим Михайлович Аникеев. Это было так естественно — ведь тогда мы жили одной театральной семьей. Сейчас о той атмосфере приходится лишь вспоминать…
Рудик переехал в Москву и стал жить у нас. Потом родителям удалось обменять нашу большую комнату на Ульяновской улице, и мы всей семьей переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе. Одну комнату отдали нам, а в другой жили втроем папа, мама и брат Володя.
Я переписывалась с Марией Александровной, делилась с ней многим. Рассказывала о нашей жизни, о том, какие спектакли или фильмы видела. Если мы выезжали куда-нибудь на природу, то я подробно описывала ей увиденные пейзажи. Она мне отвечала: «Ты так хорошо все описала, что я словно побывала вместе с вами». Она меня любила, и я тоже испытывала к ней самые теплые чувства, называла ее «киевской мамой». И, несмотря на то, что мы с Рудиком прожили недолго и потом развелись, я до сих пор называю ее так, когда нам изредка случается разговаривать с ним по телефону. За прошедшие долгие годы после развода мы с Рудиком виделись всего один раз, хотя отношения остались нормальные.
Добрые чувства ко мне моей бывшей свекрови не были чем-то временным — она до последних дней сохраняла ко мне привязанность. У нее дома на стене над швейной машинкой висели мои фотографии, несмотря на то, что у Рудика появилась новая семья и его жене это могло быть неприятно. Но, очевидно, вторая невестка Марии Александровны была женщина неглупая и поняла, что эти фотографии что-то значат для свекрови — у старых людей ведь могут быть свои привязанности…
«На приморской улице акация цветет»
Иосиф Михайлович Туманов ушел из театра в декабре 1953 года, а уже в начале января следующего года труппе представили ее нового художественного руководителя — Владимира Аркадьевича Канделаки, известного в то время артиста Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Он с блеском работал и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Знали его и по выступлениям на радио, большой популярностью пользовались пластинки с записями песен в его исполнении. При этом Канделаки был не просто певцом, но и прекрасным драматическим актером — мог играть и трагедийные, и комические роли. Ему удавались серьезные оперные партии, но с не меньшим удовольствием выступал он и в музыкальных комедиях.
Старые московские театралы, возможно, еще помнят исполненные им разноплановые роли — старика Измайлова в «Катерине Измайловой» («Леди Макбет Мценского уезда») Д. Шостаковича, кулака Никиты Сторожева в опере Т. Хренникова «В бурю» (спектакли были поставлены еще до войны В. И. Немировичем-Данченко, у которого Канделаки был любимым артистом), Тараса в «Семье Тараса» Д. Кабалевского… Были в его репертуаре и Монфор в «Сицилийской вечерне» Верди, и Наполеон в «Войне и мире» С. Прокофьева, и маг Челий в его же опере «Любовь к трем апельсинам»… В спектакле «Тоска», постановщиком которого был сам Канделаки, им был создан образ коварного Скарпиа…
Все эти роли Владимир Аркадьевич сыграл на сцене Музыкального театра, а еще раньше, когда он только учился в ГИТИСе, он был прекрасным Грязным в «Царской невесте» Римского-Корсакова. Об этом мне рассказывала Дора Борисовна Белявская, помнившая ту студенческую работу совсем молодого Владимира Канделаки.
Был в его судьбе и совсем необычный выход на сцену — Канделаки станцевал партию Гирея в балете «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева. И танцевал не с кем-нибудь, а с самой Галиной Сергеевной Улановой. Случилось эго во время войны, в эвакуации, в Алма-Ате, куда Канделаки приехал на съемки. В это время там же был Большой театр. На один из спектаклей «Бахчисарайского фонтана» по какой-то причине не явился исполнитель роли Гирея, и тогда, спасая положение, обратились к Канделаки, который согласился выступить в необычном для себя амплуа. Как потом рассказывали свидетели того его выступления. Владимир Аркадьевич и в балете продемонстрировал свой артистический дар.
Неподражаем был Канделаки в комических ролях — например, жреца Калхаса в «Прекрасной Елене» Оффенбаха, веселого, находчивого плута Стефана в «Цыганском бароне» Штрауса или Олендорфа в «Нищем студенте» Милеккера… Кстати, последние два спектакля были поставлены на сцене Музыкального театра именно Канделаки.
Владимир Аркадьевич и в жизни был человеком веселым, остроумным, любил шутки, смех. Смеялся он заразительно. Ему нравилось нести людям со сцены радость, а оперетта, которая для него была синонимом радости, давала такие возможности. Музыкальную комедию он воспринимал как празднество, поэтому так умел ставить спектакли, искрящиеся весельем, юмором. Канделаки говорил, что человеку, не обладающему чувством юмора, нельзя выходить на сцену Театра оперетты. Так что любовь Владимира Аркадьевича к нашему жизнерадостному виду искусства была естественной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: