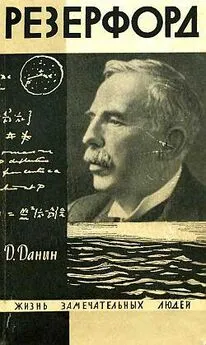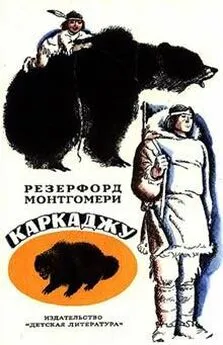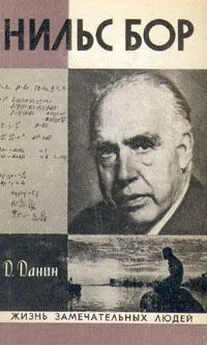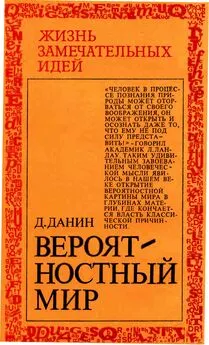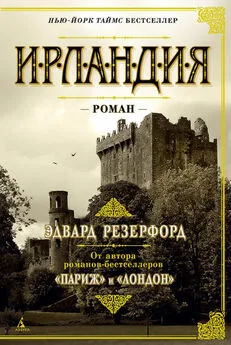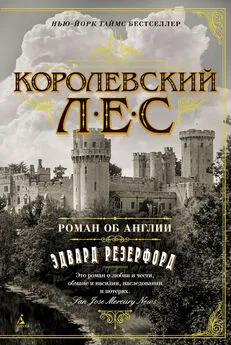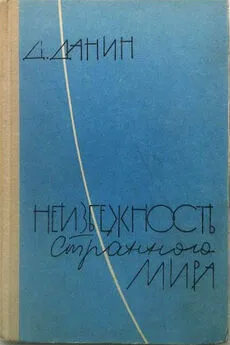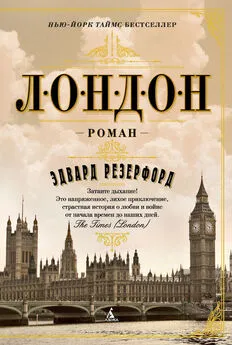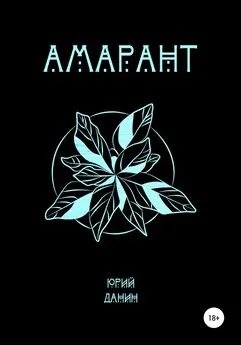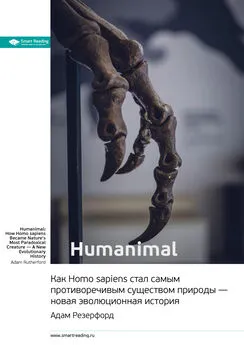Даниил Данин - Резерфорд
- Название:Резерфорд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1966
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Данин - Резерфорд краткое содержание
Книга Д.Данина посвящена величайшему физику-экспериментатору двадцатого столетия Эрнесту Резерфорду (1871–1937).
Резерфорд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дарвин писал:
У него было два рабочих правила. Первое: если вы начали налаживать установку для эксперимента, вы не должны останавливаться, пока она не будет налажена. Второе: когда установка налажена, вы не должны останавливаться, пока эксперимент не будет завершен.
Эти правила вынуждали Мозли вести совершенно нерегулярный образ жизни. И порою донельзя истощали его силы. Но давать ему благие советы было бесполезно. Следя за Мозли и наблюдая его одержимость, Резерфорд видел, что перед ним не совсем обычный случай усердия и одухотворенности.
Хоть это и звучит полумистически, но, право, создается впечатление, будто Мозли чувствовал, что ему недолго жить, и потому спешил, превращая ночи в дни. Он наслаждался лабораторным уединением. И в среде резерфордовцев, где господствовал стиль легкого панибратства, он выделялся некоторой своей замкнутостью и чуть демонстративной независимостью. Андраде говорил, что он был не из тех, кто со всеми на короткой ноге. И пояснял: «В отличие от — большинства из нас». Может быть, и в нем, как некогда в Содди, говорила оксфордская гордыня? Хотя у него было больше оснований для такой вздорной гордыни, ибо в Оксфорде профессорствовали его отец и оба деда, а сам он значился еще и воспитанником аристократического Итона, эта черта была ему не свойственна. К своей степени магистра он в отличие от Содди не добавлял — «Охоп». Иерархического и светского тщеславия в нем не было. Он просто принадлежал к не очень многочисленной и одинаковой во все века человеческой разновидности монахов познания. И в свои двадцать с небольшим уже отличался чудачествами, обычно украшающими старых зубров науки.
Так, он в самом деле не любил, чтобы ему мешали! И всячески защищал свою сосредоточенность. Рассказывали «спичечную историю». В подражание Резерфорду он курил трубку и, подобно Резерфорду, изводил множество спичек. Но следовать резерфордовской манере — у всех и всюду одалживаться спичками, а потом не возвращать их, он не мог: это рассеивало и каждый раз нарушало уединение. Зато другие, зная, что у педантичного Мозли спички всегда найдутся, часто заглядывали к нему с той микробесцеремонностью, на какую в интернационале курильщиков не принято досадовать. Чаще других наведывался шеф. В один прекрасный день его встретил в лабораторной комнате Мозли маленький плакат: «Пожалуйста, возьмите одну из этих коробок и оставьте в покое мои спички!» Плакатик был воткнут в пирамидальную гору спичечных коробков. Купив за шиллинг и шесть пенсов гросс — дюжину дюжин — этого добра, Мозли приобрел право на лишние минуты сосредоточенного молчания.
Во второй половине 13-го года его лабораторное окно светилось ночами гораздо чаще, чем прежде. И это был не тот случай, когда Резерфорд мог бы запросто сказать: «Ступайте-ка домой, мой мальчик, и думайте!» Да, случай был не тот… И мальчик был не тот… Напротив, легче представить, как вечерами, заглядывая перед уходом из лаборатории к Мозли, чтобы осведомиться о его успехах. Резерфорд, словно заговорщику, сообщал ему адрес ночной таверны, где в любое время можно отлично перекусить да еще послушать при этом занятные рассказы о жизни. А на следующий день допытывался: «Ну как, Гарри, там неплохо было, а?» Невиннейший Мозли приобрел среди манчестерцев славу человека, знающего в городе злачные места, где тебя накормят и в три часа утра. Не без консультаций шефа приобрел Мозли эту славу, которая ужаснула бы его любящую мать, узнай она у себя в Оксфорде об изнуряющем стиле жизни сына.
А может, она об этом и узнала, потому что в конце 13-го года настояла на скором возвращении Генри домой. И этим заставила его еще усилить темп работы. Во всяком случае, он успел до отъезда закончить исследование спектров для группы элементов от кальция до цинка. И успел вывести свой закон. «…Уже в ноябре 1913 года я получил от него интереснейшее письмо с изложением важных результатов», — писал Бор, вспоминая свое тогдашнее удивление стремительностью происшедшего. Его удивление возросло еще больше, когда вскоре он увидел работу Мозли уже напечатанной в «Philosophical magazine».
Резерфорд не позволил статье оксфордца пролежать в лаборатории и часу лишнего! Для судьбы самой ядерно-планетарной модели атома эта статья была в известном смысле так же решающе важна, как и недавняя статья Бора. Замечательно совпадение: обе работы были опубликованы в одном и том же 26-м томе 6-й серии «Philosophical magazine» за 1913 год. Бор в июльском выпуске открывал этот том (стр. 1—25), а Мозли в декабрьском — закрывал (стр. 1024–1034). Ровно тысяча журнальных страниц, переполненных всяческой научной информацией, отделяла одну от другой две эти великие вехи в истории ядерно-планетарной модели атома.
Итоги исследования Мозли обладали редкой наглядностью. При сравнении фотографий характеристических рентгеновских спектров (а он научился их фотографировать) было отчетливо видно, как в последовательности элементов — титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк — самая интенсивная линия шаг за шагом закономерно сдвигается в сторону все больших частот. А тем временем в математической формуле для этих частот некая величина в той же последовательности меняет свое значение с каждым шагом ровно на единицу! Если же линия в спектре сдвигается сразу на два шага — как при сравнении спектров кальция и титана, — то и эта величина возрастает не на единицу, а сразу на две… Мозли назвал ее фундаментальной характеристикой атома и из простых соображений умозаключил:
Эта величина может быть только зарядом центрального положительного ядра, существование которого уже с определенностью доказано.
Тотчас разрешилось много застарелых недоумений. И среди них — вопрос о количестве электронов в атомах разных элементов. Многие авторы давали резко противоречивые оценки этого количества: в атоме водорода оказывалось от 1 до 3 электронов, а в атоме урана — от 120 до 700 с лишним! И ни одна оценка заведомо не претендовала на точность: всякий раз говорилось — «приблизительно столько-то…». Странно подумать сегодня, что в числе других этот вопрос обсуждался той осенью в Брюсселе на 2-м Сольвеевском конгрессе и представлялся отнюдь не элементарным мозговому тресту европейской физики. Перед отъездом в Брюссель, в конце сентября, Резерфорд еще не знал уверенного ответа на этот вопрос: работа Мозли была не кончена. (Открытия не приурочиваются к конгрессам и праздникам. Во всяком случае, школе Резерфорда такой способ ускорять научный поиск был совершенно чужд.) Месяцем бы позже собрался конгресс — Резерфорд мог бы объявить, что его сотрудник Г. Г. Дж. Мозли получил «сильнейшее и убедительнейшее доказательство справедливости гипотезы Ван дер Брока» и, следовательно, число электронов в атоме равно атомному номеру элемента, ибо таков по величине положительный заряд ядра, а в целом атом нейтрален.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: