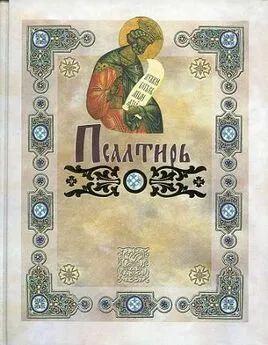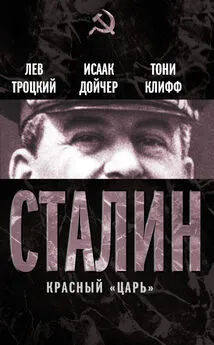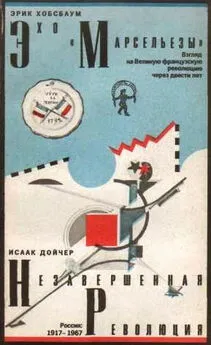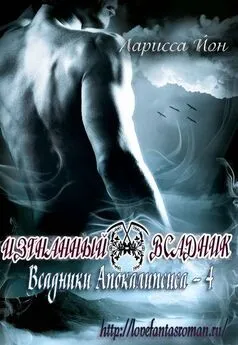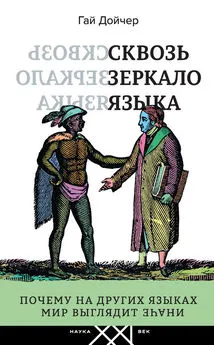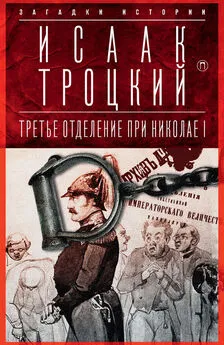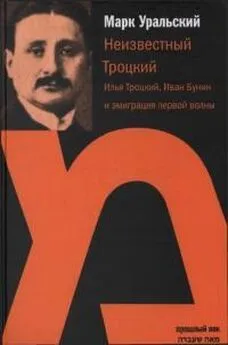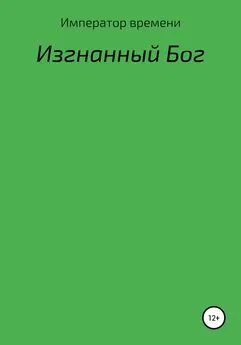Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940
- Название:Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-2157-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исаак Дойчер - Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940 краткое содержание
Исаак Дойчер, автор целого ряда исторических и социологических исследований, рассматривает жизнь Троцкого сквозь формулу слов Макиавелли о том, что «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли». В этой книге Троцкий предстает единственным, кто открыто противостоял сталинизму, вплоть до своего трагического конца.
В талантливом изложении одного из лучших европейских исследователей вы познакомитесь с трогательной и странной историей семейных отношений выдающегося публициста и оратора.
Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Достаточно кратко обрисовать эти различные аспекты Термидора, чтобы увидеть, где Троцкий был не прав в своем предположении, что Россия прошла через свой термидор в 1923 году. Поражение оппозиции в том году ни в коем случае не было событием, сопоставимым с крушением и роспуском якобинской партии. Оно скорее соответствует поражению левых якобинцев, которое случилось значительно раньше Термидора. Пока Троцкий писал «Преданную революцию», Советский Союз находился на грани великих судебных репрессивных процессов — во Франции épurations [93]были неотъемлемой частью якобинского периода, и только после крушения Робеспьера гильотина была остановлена. Фактически, Термидор был взрывом отчаяния от непрерывных репрессий, и большинство термидорианцев являлись бывшими дантонистами и эбертистами, выжившими в избиении своих фракций. Русской аналогией этого был бы успешный переворот против Сталина, осуществленный после судов 1936–1938 годов остатками бухаринской и троцкистской оппозиций.
Еще важнее другое отличие: Термидор положил конец революционным преобразованиям во французском обществе и потрясениям в сфере собственности. В Советском Союзе это не прекратилось с приходом Сталина к власти. Напротив, самое крупное потрясение — коллективизация сельского хозяйства — было проведено при его правлении. И наверняка не «закон и порядок» даже в самой антинародной форме господствовали как в 1923 году, так и в любое другое время сталинской эпохи. Что начало 20-х годов имело общего с периодом Термидора, так это спад народной революционной энергии и разочарование и апатию масс. И вот на таком фоне Робеспьер стремился удержать у власти охвостье якобинской партии и провалился; а Сталин стремился сохранить диктатуру большевистского охвостья (т. е. свою собственную фракцию) и преуспел.
Предположительно в сталинском антиэгалитаризме имелся сильный термидорианский привкус. Но его не был лишен и ленинский нэп. Забавно, что, когда в 1921 году меньшевики охарактеризовали нэп как советский термидор, ни Ленин, ни Троцкий против этого не возражали. Напротив, они поздравили друг друга с тем, что осуществили нечто вроде Термидора мирно, без раскола своей партии и не утратив власть. «Не они [меньшевики], — писал в 1921 году Троцкий, — а мы сами поставили этот диагноз. И что еще более важно, уступки термидорианскому настрою и мелкобуржуазным тенденциям, необходимые для сохранения власти пролетариата, были сделаны Коммунистической партией без развала системы и не покидая руля управления страной». Сталин также совершил самые далеко идущие «уступки термидорианским настроениям и тенденциям» своей бюрократии и управленческих групп, «не совершая разлома системы и не покидая штурвала». В любом случае, всякая историческая аналогия, которая в 1921 году почти вызывала у Троцкого желание похвастать, что он и Ленин осуществили полутермидор, а потом утверждать, что никакого советского термидора не было, и в конце концов в 1935 году утверждать, что Советский Союз уже двенадцать лет живет при термидоре, а сам Троцкий этого не замечает — такая аналогия действительно больше затуманивала умы, чем просвещала их.
Исторически более оправданно, что Троцкий мог бы направить на Сталина обвинение в том, что тот установил царство террора вроде Робеспьера и что он чудовищно перещеголял Робеспьера. Однако собственное прошлое Троцкого и большевистские традиции не позволяли ему сказать это. Будем помнить, что в 1903–1904 годах, когда Троцкий впервые порвал с большевизмом, он выдвигал обвинения в якобинстве Ленину, а в ответ Ленин гордо назвал себя «пролетарским якобинцем» XX века. Оба они думали о разных Робеспьерах: Ленин — о том, который обеспечил триумф революции против Жиронды, а Троцкий — о том, который посылал собственных товарищей на гильотину. Не только в глазах Ленина, но и в глазах большинства западных марксистов этот Руководитель Репрессий отступил через столетие за спину великого Неподкупного в пантеоне революции. Большевик Троцкий сожалел, что вообще выдвигал против Ленина обвинение в робеспьеризме; и был осторожен, чтобы не бросить такое же обвинение против Сталина. Приняв тем временем большевистское прославление якобинства, он, фактически, отождествил себя с Робеспьером и по этой логике видел своих врагов термидорианцами, которыми те не являлись. Правда, его тревоги во многом пробудили всех большевиков, включая сталинистов, к бдительности. Кроме того, что-то от термидорианского настроя все еще сохраняется в Советском Союзе; и это можно обнаружить (вместе с «буржуазным элементом» и «буржуазными нормами распределения») в любом рабочем государстве. Тем не менее все мы, жившие в 40-х и 50-х годах и видевшие русскую революцию во всей ее Прометеевой мощи, намного превосходящей французскую революцию по масштабам и энергии — можно только удивляться странной quid pro quo, [94]благодаря которой фантом Термидора заблудился на российской сцене и оставался там целую историческую эпоху.
Пессимизм настоящий и внешний, лежащий в основе «Преданной революции», проявляется и на тех страницах, где Троцкий пытался предсказать влияние Второй мировой войны на Советский Союз. Он отмечал, что новая общественная система обеспечила «национальную оборону» преимуществами, о которых старая Россия не могла мечтать, что при плановой экономике сравнительно легко переключиться с гражданского производства на военное и «сфокусироваться на интересах обороны даже в строительстве и оборудовании новых заводов». Он подчеркнул прогресс советских Вооруженных сил во всех видах современного оружия и заявил, что «соотношение между живой силой и техникой Красной армии в общем и целом может считаться на одном уровне с лучшими армиями Запада». В 1936 году такое мнение не превалировало среди западных военных экспертов, и пафос, с которым выражался Троцкий, был, несомненно, рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на правительства и генеральные штабы западных держав. Но он видел слабость советской обороны в термидорианском духе ее офицерского корпуса, в жестко иерархическом армейской структуре, которая заменила ее революционно-демократическую организацию, и превыше всего в сталинской международной политике. Он утверждал, что Сталин, пренебрегая поначалу опасностью, исходящей от Третьего рейха, сейчас был обязан отражать ее, полагаясь в основном на альянсы с западными буржуазными державами, на Лигу Наций и на «коллективную безопасность», ради которой он в случае войны воздержится от каких-либо революционных призывов к вооруженным рабочим и крестьянам воюющих наций.
«Можем ли мы, — спрашивал Троцкий, — ожидать, что Советский Союз выйдет из надвигающейся великой войны без поражения? На этот открыто поставленный вопрос мы также ответим открыто: если эта война останется лишь войной, поражение Советского Союза неизбежно. В техническом, экономическом и военном отношениях империализм несравненно сильнее. Если он не будет парализован революцией на Западе, империализм сметет режим, рожденный Октябрьской революцией». Расколотый изнутри Запад в конечном итоге объединится «для того, чтобы блокировать военную победу Советского Союза». Намного раньше мюнхенского кризиса Троцкий заметил, что Франция уже считает свой союз с Советским Союзом не более чем «клочком бумаги», и будет продолжать делать это, невзирая на то, как старается Сталин укрепить альянс через Народный фронт. Если бы Сталин сделал еще больше уступок французскому, британскому и американскому экономическому давлению, тогда этот альянс стал бы реальностью, но и тогда союзники воспользуются трудностями Советского Союза, вызванными войной, и будут стремиться подорвать социалистические основы его экономики и вырвать далеко идущие уступки капитализму. В то же самое время крестьянский индивидуализм, возбужденный войной, будет угрожать крахом коллективному ведению хозяйства. Вот это внешнее и внутреннее давление, подводил итог Троцкий, приблизит к России опасность контрреволюции и реставрации. Ситуация, однако, не настолько безнадежна, потому что война также приблизит революцию к Европе, а поэтому в итоге «Советский режим будет стабильней, чем режимы предполагаемых врагов». «Польская буржуазия» может только «ускорить войну и обрести в ней… несомненную смерть», а «Гитлер имеет значительно меньше шансов, чем было у Вильгельма II, довести войну до победы». Уверенность Троцкого в европейской революции была так же сильна, как и его уныние при мысли о перспективах Советского Союза в отсутствие такой революции:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: