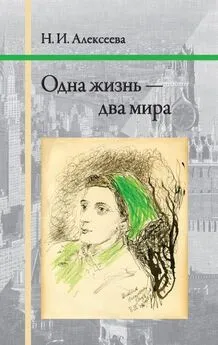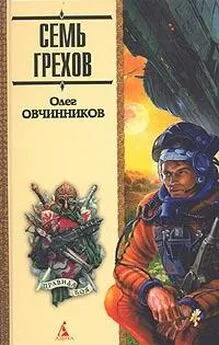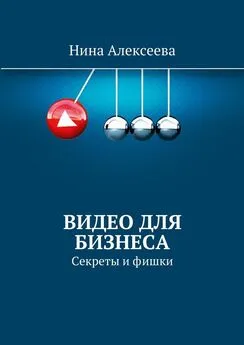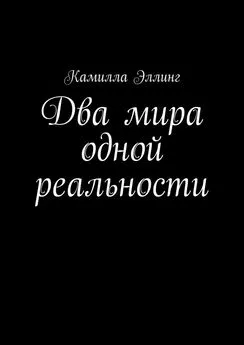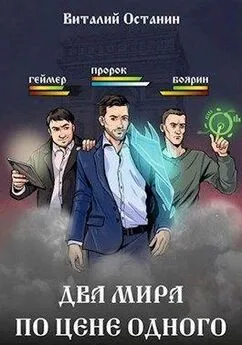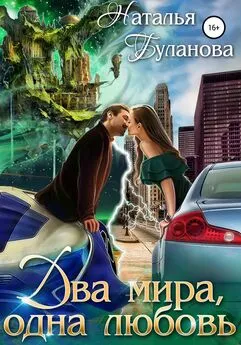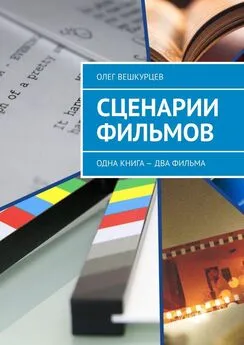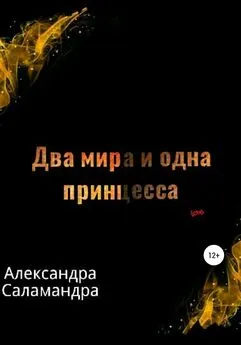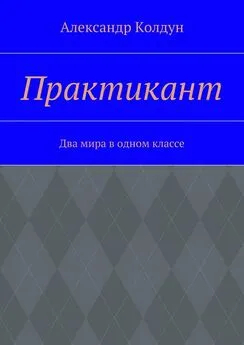Нина Алексеева - Одна жизнь — два мира
- Название:Одна жизнь — два мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0363-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Алексеева - Одна жизнь — два мира краткое содержание
В своей автобиографической книге Нина Ивановна Алексеева (1913–2009) повествует о судьбе своей семьи в разные периоды жизни в СССР и за рубежом, куда ее мужа, Кирилла Михайловича Алексеева, направили по линии Наркомвнешторга в Мексику в начале мая 1944 года. После гибели в авиакатастрофе посла СССР в Мексике К. А. Уманского, в ноябре 1946 года, семья Алексеевых эмигрировала в США. Одна из причин вынужденной эмиграции — срочный вызов Алексеевых в Москву: судя по всему, стало известно, что Нина Ивановна — дочь врага народа, большевика Ивана Саутенко, репрессированного в 1937 году.
Затем последовали длительные испытания, связанные с оформлением гражданства США. Не без помощи Александры Львовны Толстой и ее друзей, семья получила сначала вид на жительство, а затем и американское гражданство.
После смерти мужа и сына Нина Ивановна решила опубликовать мемуары о «двух мирах»: о своей долгой, полной интересных встреч (с политиками, людьми искусства и науки) и невероятных событий жизни в СССР, Мексике и США.
Живя на чужбине в течение долгого времени, ее не покидала мысль о возвращении на родину, которую она посетила последний раз за три месяца до своей кончины 31 декабря 2009 года…
Одна жизнь — два мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так я и осталась жить в Москве на Мытной, 23. Это был новый жилищный комплекс, состоявший из 12 однотипных 4-этажных зданий, занимал почти два квартала между Мытной улицей с одной стороны и Люсиновской с другой стороны (где и шла надстройка на одном из корпусов), построенных в конце двадцатых годов. Коммунальные удобства в этой трехкомнатной квартире на всю семью из 12 человек включали только кухню с одним краном для холодной воды, к которому по утрам надо было стоять в очереди, чтобы умыться, а мужчинам и побриться, и один малюсенький туалет, куда с трудом можно было протиснуться.
О газе, горячей воде, ванных, холодильниках никому даже в голову не приходило. Зимой замораживали продукты прямо за окном. Летом было хуже, беречь продукты было невозможно, надо было покупать продукты почти каждый божий день, стоя в очередях. Возвращаясь с работы, надо было сразу же начинать готовить обед или ужин на знаменитых керосинках или примусах. На этой же знаменитой керосинке надо было греть воду, купать детей, стирать пеленки и детское белье, что делало невыносимо тяжелой жизнь, особенно для работающих матерей. Надо только удивляться, как на все это хватало сил и энергии.
Но здесь, в этом же жилищном комплексе, было одно чуть ли не на всю Москву «чудо» — механическая прачечная, где стояли огромные стиральные машины (не надо путать с современными стиральными машинами), это были просто огромные вращающиеся барабаны. Мы еще в наши студенческие годы пользовались этой прачечной, из общежития тащили в институт чемоданы с грязным бельем и из института после окончания занятий мчались в эту прачечную, где, простояв в очереди, успевали постирать и погладить белье до ее закрытия в двенадцать часов ночи. Но тогда я еще с Кириллом даже не была знакома и понятия не имела, что мне когда-нибудь придется в одном из этих домов жить.
Теперь на моих руках сразу очутилась большая семья. Но жизнь облегчало то, что в это время продуктов в магазине и на рынке было более или менее достаточно.
Трудно даже поверить, но это факт, что в 1936 году осенью в Москве был очень короткий период, когда в продовольственном магазине можно было заказать продукты по телефону, даже с доставкой на дом. И это было не в каких-нибудь спецмагазинах, а в обыкновенных районных у нас на Даниловской. Тогда же появились какие-то коммерческие магазины, где цены были чуть-чуть выше государственных.
Помню, как с апреля по июнь 1937 года я находилась почти 3 месяца в командировке по обследованию предприятий, в которых имелись металлургические цветно-литейные цеха по переплавке первичных и вторичных цветных металлов. Я проехала по многим городам, по многим крупным промышленным центрам не только на Украине, но и в Крыму, и всюду было достаточно продуктов. Нет, изобилия не было, но было вполне достаточно. В Крыму, в Керчи мы пили вкусное венское кофе с горячими булочками, а знаменитая керченская селедка, как вылитая из серебра, в рыбных магазинах стояла прямо в бочках. В Симферополе, Севастополе и на Украине в Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Киеве и во многих других городах в магазинах, на рынке и в ресторанах было в достаточном количестве продовольствия. Я помню, в Днепропетровске в гастрономах было полно колбас, даже были медвежьи окорока — буженина. В Харькове, Севастополе, Симферополе, Киеве никаких особых затруднений с продовольствием не было. В ресторанах готовили, как всегда, обильно и очень вкусно.
Но так продолжалось очень недолго, до осени 1937 года, и чем сильнее разгорались репрессии и аресты, тем все труднее и труднее становилось с продовольствием, даже в больших городах и в промышленных центрах. А осенью и особенно зимой 1937-го уже снова надо было не просто стоять в очередях, а надо было вставать чуть свет, бежать занимать очередь в надежде, как только откроется магазин, что-либо «достать», слово «купить» снова исчезло, а именно надо было «достать».
И еще, очень странно было то, что периодически, как только появлялись какие-нибудь послабления или улучшения в области снабжения, как будто кто-то сразу вмешивался, быстро подходил, закрывал кран, и все снабжение вылетало из-под контроля. Как будто кто-то давал команду постараться создать как можно больше трудностей, чтобы все улучшения сразу и немедленно исчезли и снова появились самые невыносимые условия жизни и чтобы люди вечно жили в каком-то напряжении.
И вообще, каких улучшений можно было ожидать? О какой нормальной работе могла идти речь? Принимая во внимание то, что творилось в это время. Если на каждом предприятии, в каждом учреждении по всей стране руководство менялось три-четыре раза в год. Вновь назначенные не только не успевали ознакомиться с работой или войти в курс дела, они даже кресло под собой согреть не успевали, как их пересаживали в тюремные камеры и на их место назначали новых. Проектное бюро, в котором я работала в «Гипроцветмете», буквально опустело. Среди моих знакомых почти не было семьи, в которой кто-то не исчез. Удивлялись не тем семьям, у которых был кто-либо арестован, а тем, у кого никого не трогали.
Самый кровавый год
Весь 1937 год полным ходом шли кровавые процессы, страну спасали от «врагов народа», от «вредителей», а жить становилось все хуже и хуже.
И как только с 26 сентября 1936 года и до 25 ноября 1938 года НКВД СССР стал возглавлять Ежов, кровавые процессы не только не прекратились, а увеличились с невероятной быстротой и силой. Теперь Сталин с помощью Вышинского и Ежова начал плести невероятную сеть интриг вокруг всех неугодных Сталину людей. Н. И. Ежов, Л. М. Каганович и А. Я. Вышинский были в это время в самом большом почете у Сталина, и никаких опозданий с расстрелами уже не наблюдалось.
Репрессии в это время усилились и дошли до такой чудовищной степени, что весь 1937 год, несмотря на все репрессии до и после, остался в памяти чудом переживших это время людей как самый страшный, самый кровавый период в нашей истории. И теперь главным исполнителем этих массовых репрессий стал Ежов.
А кто же был самый главный автор и вдохновитель этих жутких кровавых процессов? Ведь за один только 1937 год в Москве и Московской области было расстреляно 3000 ответственных не просто даже работников, а самых ответственных работников, а из 136 секретарей райкомов к середине 1937 года осталось только 7 человек.
23 января 1937 года состоялся процесс 17-ти старых большевиков. На скамье подсудимых оказались: 1-й заместитель НКТП Григорий Пятаков, товарищ наркома путей сообщения Л. Я. Серебряков, тов. НКПС Лифшиц, командир Московского военного округа Н. И. Муратов, Дробнис, Корк и многие, многие другие. Они обвинялись: 1) в образовании центра для захвата власти; 2) в убийстве Кирова; 3) в подготовке террористических актов, направленных против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Кирова. Слушая эту белиберду, даже я тогда высказала сомнение: «Ну что за глупость, если они действительно собирались убивать, то почему они начали это с одного из самых безобидных и всеми любимых — Кирова, а не со Сталина или, например, с Кагановича? Ведь в этом поступке нет никакой логики.» Из этой всей группы только бывший полпред в Лондоне Г. Сокольников и редактор «Известий», органа печати ЦИКа СССР, К. Радек были сосланы на 8-10 лет. Все остальные были расстреляны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: