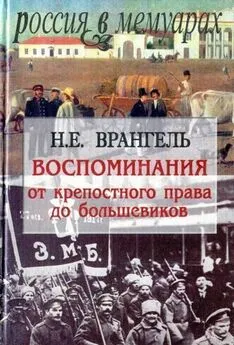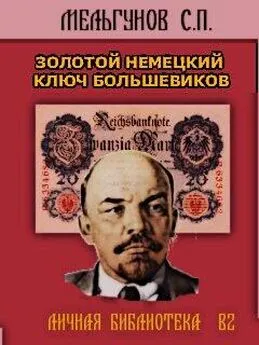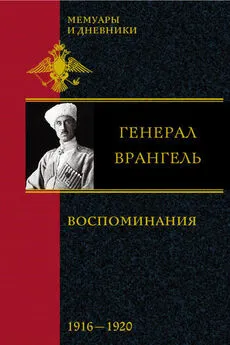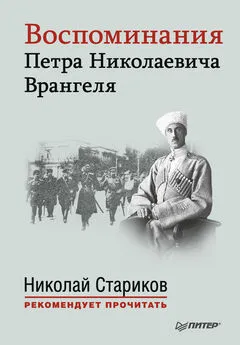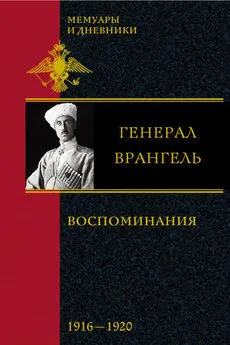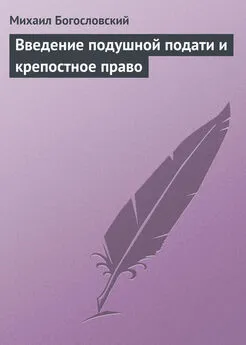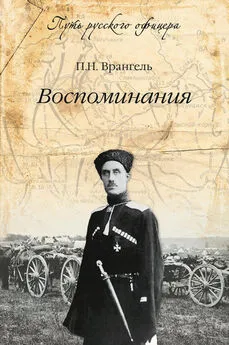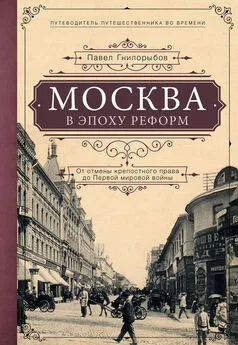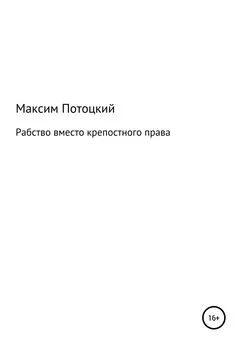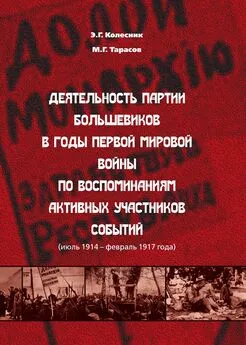Н. Врангель - Воспоминания. От крепостного права до большевиков
- Название:Воспоминания. От крепостного права до большевиков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-223-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Врангель - Воспоминания. От крепостного права до большевиков краткое содержание
Впервые на русском языке публикуются в полном виде воспоминания барона Н.Е. Врангеля, отца историка искусства H.H. Врангеля и главнокомандующего вооруженными силами Юга России П.Н. Врангеля. Мемуары его весьма актуальны: известный предприниматель своего времени, он описывает, как (подобно нынешним временам) государство во второй половине XIX — начале XX века всячески сковывало инициативу своих подданных, душило их начинания инструкциями и бюрократической опекой. Перед читателями проходят различные сферы русской жизни: столицы и провинция, императорский двор и крестьянство. Ярко охарактеризованы известные исторические деятели, с которыми довелось встречаться Н.Е. Врангелю: M.A. Бакунин, М.Д. Скобелев, С.Ю. Витте, Александр III и др.
Воспоминания. От крепостного права до большевиков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Какая жалость! Хотел было показать вам Ван Гойена.
Мой польский друг загорелся, мы поехали.
— Покажите ему вашего Ван Гойена, — попросил я продавца и, заранее предвкушая предстоящий спектакль, отошел в сторону.
Мой польский друг разглядывал картину довольно долго.
— Сколько хотите?
Торговец назвал цену, что-то неправдоподобное для того времени, около двухсот рублей. Мой друг вытащил деньги и отдал их, не торгуясь. И мне стало не по себе оттого, что удалось провести его.
Но я ошибся: провел я не моего друга, а себя самого. Ван Гойен оказался настоящим, стоил тысячи и был, вероятно, первым и последним настоящим Ван Гойеном, которого видел и которым обладал Ван Гойен-сам.
Знаток живописи
В большом доме с колоннами на углу Садовой и Гороховой жил странный человек, по внешности напоминавший крепостного дворецкого; фамилия его была, если правильно помню, Чумаков. Он был наполовину ростовщик, наполовину антиквар, занимал он квартиру в несколько больших комнат, на полу которых громоздились сложенные одна на другую картины без рам. Из мебели в комнатах была одна кушетка, на которой он спал, один стол и несколько сломанных стульев. Картины, покрытые непредставимым количеством пыли, были одна лучше другой. Когда я попал к нему в первый раз, я был потрясен. Показывал свои картины он с большой неохотой; только потому, что человек, который привел меня к нему, был его старым знакомым, мне удалось картины посмотреть.
Я выбрал несколько полотен и спросил, сколько они стоят. Он ответил, что одна из них, кисти такого-то художника, стоит 100 ООО рублей, а другая, кисти такого-то, стоит 50 000 рублей. Картины были настоящие, и названные цены соответствовали ценам, которые платили европейские коллекционеры. «Но я, — сказал он, — их ни за какую цену не продам».
Позже я познакомился поближе с этим странным и по-настоящему удивительным человеком, и мы стали друзьями.
В качестве крепостного слуги какого-то богатого русского мецената он оказался в Италии и прожил в этой стране много лет, сопровождая своего хозяина в посещениях всевозможных выставок живописи и частных собраний. В конце концов в нем проснулся интерес к искусству, и он постепенно стал первоклассным знатоком живописи. Он умел читать и ознакомился с разной литературой по искусству. Разумеется, самым важным во всем этом были ему природой данные безошибочный глаз и тонкая художественная интуиция. В награду за то, что он где-то откопал для своего князя настоящего Тициана, тот отпустил его на волю. Вскоре после возвращения в Россию князь умер; Чумаков стал ростовщиком. Деньги он ссужал только под живопись, которую оценивал весьма низко, но зато брал очень невысокий процент — только 8 % в год.
«Плохое занятие, да, но без живописи жизнь для меня не жизнь. А пойти в Эрмитаж люди вроде меня не могут, да и фрака у меня нет. А что стало бы со мной без живописи? Человек без своего сердца жить не может». В качестве пояснения вышесказанного необходимо заметить, что в то время в Эрмитаж без личного, на имя предъявителя, пропуска попасть было невозможно, пропуск же получали через министра двора после длительной бумажной волокиты, и чтобы войти в Эрмитаж, необходимо было иметь фрак. До самой революции Эрмитаж, как и Летний сад, был закрыт для обычного люда и солдат 31*.
В один прекрасный день Чумаков пришел ко мне с картиной.
— Вы сказали однажды, что вам нравится эта картина (он тогда оценил ее в 100 000 рублей). Я подумал, что вы захотите купить ее? — Он вытащил свою тетрадь. — Смотрите. Ее оставили мне за 50 000 рублей под 10 %, вам я продам ее за семьдесят.
— Я бы рад и 500 000 заплатить за нее, но не могу. Это грех.
Но ему были нужны наличные деньги, и картину он продал.
Как-то в Петербург приехал Вааген 32*, которого пригласили для работы в Эрмитаже. Познакомившись с Чумаковым, он начал часто заходить к нему с самыми разнообразными вопросами. «Только в России, — сказал он мне однажды, — способны не ценить и не использовать такой талант и такие знания. В Европе это было бы невозможно». Зато у нас в России столяр Сидоров, спасший во время пожара в Зимнем дворце зеркало, волей Николая I был произведен в кураторы Эрмитажа, сделав заодно эту должность «наследственной». Я имел честь быть знакомым с его покойным сыном, умершим в конце XIX века, который всю жизнь занимал пост куратора музея и главного реставратора живописи 33*. По неосмотрительности я как-то дал ему на реставрацию две картины, которые он с присущим ему талантом совершенно погубил. После его смерти собранная им большая коллекция была продана на аукционе; в основном она отличалась поразительной безвкусицей. Лишенные всякой художественной ценности произведения тем не менее были дорого оценены и проданы за большие деньги благодаря его положению в Эрмитаже. В его коллекции были также и произведения талантливых мастеров, но их дешево оценили и дешево продали. Что ж поделать, каков поп, таков и приход.
Как стать знатоком искусства
Чтобы закончить мой рассказ о коллекционировании произведений искусства: после того, как начал выходить журнал «Старые годы», и в результате публикаций моего сына коллекционирование превратилось в своего рода эпидемию в Петербурге с катастрофическими последствиями: всеобщее сумасшествие привело к быстрому и резкому росту цен. Поэтому я попробую ответить на наивный вопрос, на который я пытался ответить десятки раз: «Что надо сделать, чтобы стать знатоком искусства». Ответ короткий: нужен прежде всего «глаз», способность видеть, дар, данный нам природой, и второе, надо как можно больше смотреть хорошую живопись, что зависит уже от самого человека. Я знал одного знаменитого писателя, написавшего замечательные работы по истории искусства, знавшего досконально все собрания живописи в Европе до такой степени, что, когда он видел картину, он мог сказать, что такая-то второстепенная деталь в картине встречается в такой-то и такой картине в таком-то и таком-то музее, но он не мог отличить хорошую живопись от посредственной.
Я также знаю людей, которые не знали по имени ни одного художника, не прочитали ни одной книги по искусству, не видели ни одной картины, но безошибочно могли отличить настоящую живопись от посредственной. Мой сын Николай к своим пятнадцати годам не видел ничего, кроме деревни, и не видел никакой живописи, кроме картин в моем кабинете. В Ростов-на-Дону привезли выставку картин Верещагина, посвященную 1812 году, на которой среди больших полотен были два небольших этюда, сделанные им в Ташкенте. Я пошел с сыном на выставку. Тематика верещагинской живописи была интересной, особенно для мальчика его возраста.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: