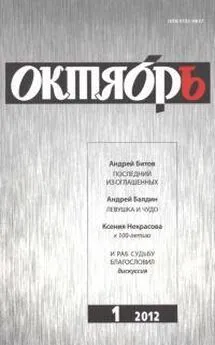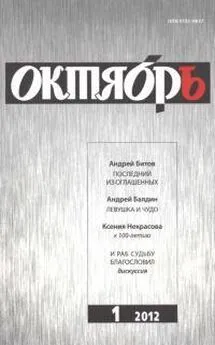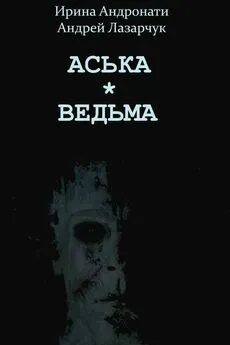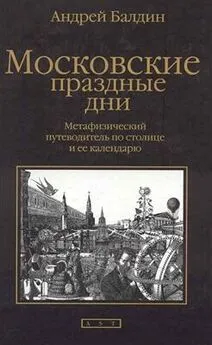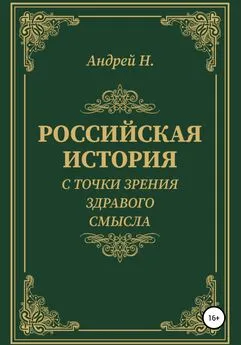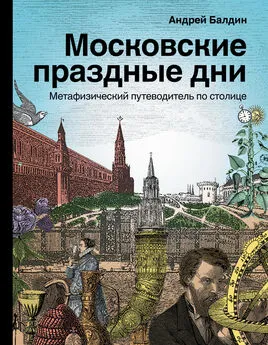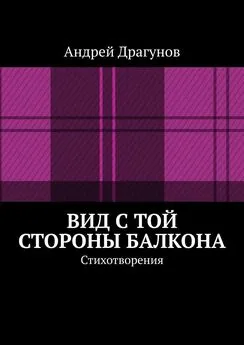Андрей Балдин - Протяжение точки
- Название:Протяжение точки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Протяжение точки краткое содержание
Протяжение точки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет, это не механика. Это мнемотехника — управление своей памятью, оформление памяти. В памяти Пьера центральное мгновение его жизни — это счастливое объяснение в любви Наташе. Пьер так помнит свою жизнь, так он вспоминает ее в эпилоге романа [46] .
И вместе с ним благодаря этому «механическому» черчению Толстого, вместе с Пьером мывспоминаем этот роман — целиком, округлой сферой, и тем удерживаем эту московскую сферу в своей памяти и своей душе.
Эта сфера времени и есть Москва. Она у Толстого идеально симметрична (одинаково развернута вокруг центральной точки, куда продета игла его «циркуля» времени).
Москва на чертеже Толстого выглядит идеально: концентрически и центроустремленно.
Очерчивая ее подобным образом, Толстой идеальным образом «фокусничает».
Нас интересует оптика языка: вот лучший опыт применения этой оптики. Линзою своего романа Толстой — второй Моисей (после первого, Карамзина, предваряющего московское событие) — обратным ходом собирает нашу память о событии 1812 года: показательно концентрически.
Такова его идеальная космогония Москвы.
Персонажи его «библейского», время-оформляющего романа, или романа-мифа, в который должно веровать, а не искать в нем точного исторического свидетельства, начиная с Пьера («апостола» Петра, основателя новой московской церкви — оциркуленной вокруг его объяснения в любви) выстраиваются перед нами показательной галереей. Здесь уместен даже Долохов (он же, мы помним, двоюродный дядя автора, Федор Толстой). Почему, кстати, «даже»? Именно в таком контексте Долохов становится уместен. Это бес, испытатель материала времени. В той заменяющей историю мистерии, которой предстает роман «Война и мир», такой противуисторический, перечеркивающий, превращающий время в точку персонаж совершенно необходим. Все встают на свои места, в первую очередь богородицеподобная Мария Болконская и с нею рядом русская Афродита — Наташа, самое Москва, которой в событие 1812 года судьба преобразиться, креститься заново.
Тут все сходится — и сходится вокруг фокуса слова (о душе).
Толстой, глядя на Москву, учится мыслить и смотреть словом. Язык, который он при этом обретает, Толстой полагает христианским, которым успешно отгораживает себя от смерти, — пока не добирается до Арзамаса и Астапова.
С 1812 года для него — для всех нас, уверовавших в слово (как не уверовать разом в Марию и Афродиту?) — начинается новое царство: не государство, но царство такого как раз, спасительного, огораживающего душу языка. Это важное уточнение; оно так же важно, как метаморфоза Николая Карамзина, в свое время отказавшегося от равно-просвещенных немецких стереометрий будущего языка в пользу его московского — концентрического, «фокусного» устройства.
На фоне этих чертежей (тут это слово можно уверенно писать без кавычек) пожар Москвы, ее исчезновение-появление в 1812 году делаются «оптически» понятны — видны, хорошо различимы на нашем «чертеже». Вот что видно прежде всего: с этого события начинается новая московская эра, начинается с жертвы, когда является не столько «сейчас Христос», сколько «сейчас Москва». Москва пускает себя во время, где она всякое мгновение будет в центре, всегда будет «сейчас Москва».
И это, с точки зрения толстовской метафизики, которой мы верим читательски «слепо», составляет центр, суть события 1812 года.
Вокруг него, сходясь к нему и расходясь, сходятся тысячи сюжетов этого года. Война, приход французов, внутренние потрясения, переломы и игра судеб, стотысячные жертвы (в один бородинский день), сокрушительный, гибельный пожар, уход французов — все это у Толстого нанизывается на иглу московского острого циркуля, что чертит вокруг Москвы фигуру Нового времени. Все эти события объяснимы (нанизываемы) на ось центрального события: жертвенного, евангельского события начала христианского (в понимании Толстого), настоящего времени в Москве.
Следует заметить, что это метафизическое толкование событий 1812 года понравилось в момент выхода толстовского романа, в середине 1860-х годов, далеко не всем. Тогда еще были живы участники той войны; некоторые из них оспорили историческую концепцию толстовского романа.
Первым критиком выступил Петр Вяземский — бывший «арзамасец», прямой последователь Карамзина, один из самых горячих его сторонников. Он жестоко раскритиковал «Войну и мир» в первую очередь за «пространственные» искажения истории. Россия и Европа, согласно его мнению, не противостояли друг другу в начале века; никакой фатальной несводимости двух этих миров не было и быть не могло (у Толстого тезис о несводимости Москвы и Европы центральный — затем и нужна была ему эта автономная, идеально закругленная московская сфера). Напротив, сутью события было для Вяземского объединение России и Европы — в Париже, в 1814 году, в момент победного окончания войны. Вяземский был в тот момент в Париже, свидетельствовал о триумфе объединения России и Европы, и это (а вовсе не точка кометы в московских ночных небесах) был для него момент истины, опорная точка, от которой нужно отсчитывать расстояния и относительно которой оценивать трактовки исторических событий той эпохи.
Не один Вяземский возражал на метафизику «Войны и мира»; но его критика была наиболее основательна — он диагностировал принципиальную («оптическую») ошибку Толстого.
Но что нам за дело до критики Вяземского, будь она трижды справедлива? Вслед за Толстым мы погрузились в другую историю 1812 года, более чем настоящую. Мы приняли его «евангельский» миф; с того момента правда о той эпохе стала необременительным дополнением к свидетельству новой русской веры.
Вера важнее правды, она включает ее в свое большее (внутреннее) пространство — или исключает, в том случае, если правда о 1812 годе противоречит тому, что мы принимаем на веру.
Такова чудная пластика нового московского языка, его оптика, берущая верх над оптикой «простого» очевидца событий Вяземского. Она куда эффективнее в пространстве нашей памяти — она задает параметры этого воспоминаемого пространства, формирует нашу память и сознание.
Вяземский стремится связать Москву с Европой, вовлечь ее в общее (большее) с Европой пространство. Он хочет, в нашем понимании, географизировать ее. Толстой, напротив, стремится вывести Москву из, по его мнению, мертвящего куба европейской стереометрии. Он различает, разлучает Москву и Европу.
На его стороне слово; не только потому, что он писатель много больший, чем Вяземский. Нет: не только Толстой, но сам московский язык, самое наше сознание ищет автономии от европейских координат. Современному русскому слову нужны самодостаточные грамматические и содержательные, квазипространственные приемы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: