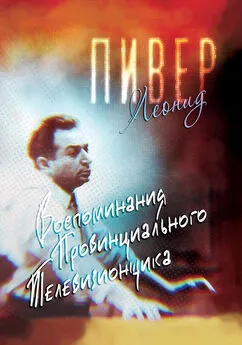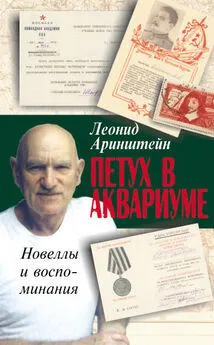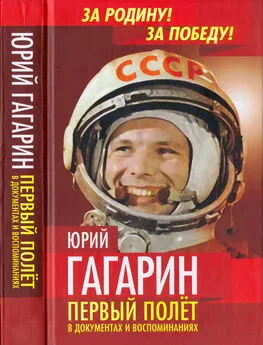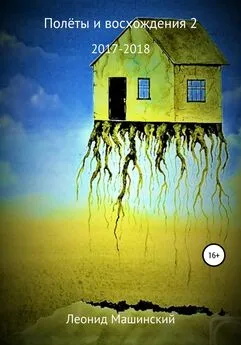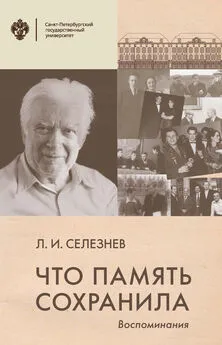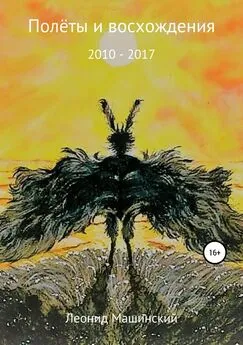Леонид Механиков - Полёт: воспоминания
- Название:Полёт: воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Механиков - Полёт: воспоминания краткое содержание
Полёт: воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это был сигнал для правой руки чуть придавить (усилия буквально 10 — 15 граммов) ручку на себя. Если я взял лишку и самолёт «вспух», т. е. начинает как бы взмывать (ну, набрал 5 — 10 см), я вдруг чувствую себя в кресле каким-то «размазанным», невесомым, никчёмным, что ли, и это чувство заставляет автоматически ручку «придержать», т. е. не брать её на себя, задержать, дать самолёту снизаться на эти лишние сантиметры… Сложно, конечно, рассказывать, ещё сложнее всё это проделывать, учитывая, как я уже говорил, доли секунд каждого из этих явлений, если всё выдерживание с метра до касания занимает 3 — 5 секунд.
Так вот в чём моя догадка: по-видимому, в организме работает на этом этапе анализ ощущений изменения веса организма человека. То, что это чувство у человека есть и работает довольно эффективно — это любой может проверить у себя даже при прыжке. Но на прыжке мускулатура сильно напряжена, и это чувство сложно проверить из-за кратковременности его действия.
Более полно можно проверить его на парашютном прыжке (у некоторых чувство падения, т. е. невесомости вызывает страх и даже ужас). Хорошо это чувство проверяется на пилотаже в зоне. Так вот (это в моём представлении), когда человек перенёс длительную невесомость, его органы и нервная система начинают как бы терять эту вот чувствительность, нарушается система анализа, оценки и соответственно — реакции, то есть можно предположить, что после невесомости сажать самолёт становится труднее. Скорее всего, в этом и кроется причина кратковременности пилотируемых полётов на Шаттлах. И ещё раз говорит о том, что компьютер на посадке как помощник не помешает, но и ещё раз подтверждает, что сажать всё-таки должен человек, имея в помощи компьютер, доверяться которому полностью (т. е. перекладывая на него командные функции) нецелесообразно и даже опасно.
Другими словами: человек настолько привык к своей наисложнейшей деятельности, что просто даже не замечает её, она становится просто обыкновенной, незаметной, такой же, как дыхание, сердцебиение, восприятие, мышление. Интересное всё-таки существо — человек!…Фонари уже не мелькают. Они просто проплывают под крыльями.
Всё медленнее и медленнее. Последний толчок — и самолёт остановился.
Всё, пробег закончен. Теперь поскорее надо освободить полосу, сзади другие самолёты идут на посадку. Рулёжная дорожка слева. Убираю посадочные щитки, и скорее на рулёжную с полосы.
Рулёжная дорожка (РД) — это тот же бетон, обозначенный огнями, запрятанными под толстым стеклом утопленных в бетон фонарей. Стекло такое прочное, что выдержит, наверное, даже наезд колесом самолёта. Огоньки эти тянутся по обоим краям бетона: мол, смотри, не попади на грунт — застрянешь. Как и ВПП (взлётно-посадочная полоса), РД ровная и широкая; в случае необходимости с неё вполне можно взлететь, если она не заставлена самолётами. Во всяком случае, на некоторых более-менее приличных аэродромах случалось рулить (это значит, ехать по земле) со скоростью более 150 км/час, когда самолёт уже слушается воздушного руля поворота, и не надо жечь тормоза. Впереди кругами мелькает огонёк фонаря — это техник на стоянке приглашает заруливать. Снижаю скорость до минимума, тут уже видны огоньки и других самолётов, как бы не зацепить, да и не снести всё их хозяйство струёй двигателя на развороте: случалось видеть, как неопытный пилот слишком рано тормозил полностью, и потом приходилось доворачиваться на движке, и летела сумасшедшая струя на другой самолёт, выдувая из-под него всё, что можно, вплоть до десятикилограммовых литых колодок из-под колёс, срывая брезентовые чехлы с фюзеляжа, словно семена с одуванчика, разгоняя проклинающую тайком барина техмощу…
Всё. Отсекаю стоп-краном двигатель. Компрессор снижает тон своего свиста — всё ниже и ниже, потом и вовсе замолкает. Ставлю фонарь на разгерметизацию. Слышно шипение стравливаемого воздуха и фонарь проседает в замках. Теперь достаточно потянуть за рукоятку открытия фонаря — и в лицо бьёт ночной прохладный воздух аэродрома. Техник уже подставил к борту стремянку. Отстёгиваю привязную систему, разъединяю фишку шлемофона и снимаю парашют. Приподнимаюсь на руках — и вот я уже на стремянке. Полёт закончен. Обыкновенный полёт. Много их таких было. Хотя и не всегда таких рядовых.
Шли обычные плановые полёты в ПМУ (простых метеоусловиях). Вообще-то, их можно было бы назвать и сложными, ибо небо было завалено громадами мощных кучевых облаков, поднимающихся своей верхней кромкой до десяти и более километров — обычное явление для фронта, перевалившего через Сихотэ-Алинь: в этом случае облачность была мощной и очень неспокойной; заходить в такие облака с их турбулентностью не рекомендовалось, и синоптик перед полётами нас об этом предупредил. Ну, да в начале полётов эти облака были редкими, между ними было достаточно места, чтобы пробраться, да и восстановить перерывы в технике пилотирования многим надо было — в общем, полёты проводились в ПМУ.
Задание у меня по плановой таблице было обычное — полёт в зону для отработки техники пилотирования на высоте. Время полёта — 40 минут, высота — 12 000 метров.
Пилотирование на высоте отличается от пилотажа на средних высотах: самолёт становится каким-то вялым, будто сонным: из-за разреженности воздуха эффективность рулей падает, появляется некоторое запаздывание, ограничение по возможностям горизонтального манёвра, больше возможности срыва самолёта и перехода его в неуправляемый полёт, потому лётчику на высоте следует больше внимания уделять технике пилотирования, не рвать ручку, как на средних высотах, действовать плавнее, рассчитывать заранее на запаздывание по манёвру, помнить, что на вертикальном манёвре самолёт быстрее набирает скорость на снижении, и можно незаметно для себя превысить допустимые скорости, что может повлечь за собой лётное происшествие, а попросту говоря — аварию или катастрофу.
Всё это было давно известно, было известно и что заходить в наковальню мощного кучевого облака запрещено, что скорости потоков воздуха внутри наковальни переменные и могут достигать больших значений, другими словами — что полёт в наковальне самолёт просто может не вынести и разрушиться…
Всё начиналось в тот день, как всегда: взлёт, набор высоты — и вот я уже в зоне пилотажа. Начинаю обычную программу: вираж влево с креном 30 градусов, вираж вправо, потом будет глубокий вираж влево-вправо, потом — переворот, петля, полупетля и т. д… А пока что машина тянется в левом мелком вираже: земля далеко внизу проблёскивает озёрцами сквозь глубокие провалы в облаках…
А облака какие сегодня красивые! Горы, а не облака. Громады клубящегося пара переливаются под солнцем на фоне белёсого горизонта, зато какая глубина и синева внизу… И каждое облако не похоже на соседнее, у каждой своё. Вот это похоже на медведя, ставшего на дыбы, это разлеглось, словно крокодил, и лениво шевелит задней лапой, а это — вот это да! Оно похоже на царя, восседающего на троне, и на голове у него корона, уходящая ввысь своими размытыми потоками пара, растворяющегося в высоте… Я перекладываю в правый вираж, а глаза всё не могут оторваться от этой чудесной короны. Корона — это наковальня. Высокая. У меня высота 12 километров. Наковальня выше — наверное, до 13. Мощная штука. Да и близко. Чего бы не попробовать? Синоптики ещё с училища пугали наковальней: мол, нельзя к ней даже подходить близко — завалит самолёт, убиться можно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: