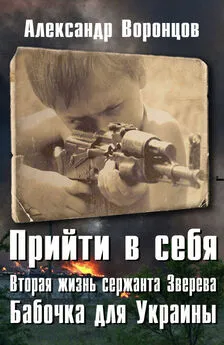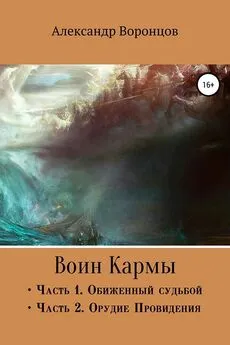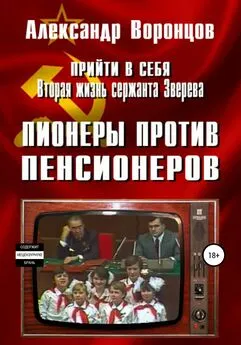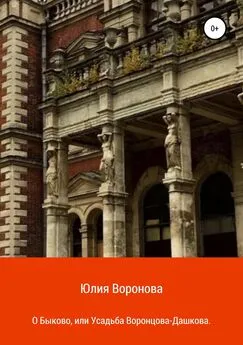Александр Воронцов-Дашков - Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и в опале
- Название:Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и в опале
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03295-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Воронцов-Дашков - Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и в опале краткое содержание
Жизнь Екатерины Романовны Дашковой (1743–1810) богата событиями даже по меркам бурного XVIII столетия. Родившись в семье одного из самых влиятельных сановников империи, графа Воронцова, она получила блестящее образование и внесла немалый вклад в дело просвещения России. Екатерина II, бывшая в молодости подругой Дашковой, поручила ей руководить сразу двумя высшими научными учреждениями — Императорской Академией наук и Российской академией. Непростой характер «Екатерины Малой» заставил ее пережить опалу, ссылку, клевету врагов и непонимание родных. В одинокой старости, пытаясь оправдаться перед потомками, донести до них свои идеи, она создала «Записки» — замечательный памятник русской словесности. К 200-летию со дня кончины Екатерины Дашковой приурочен выход в серии «ЖЗЛ» ее фундаментальной биографии, написанной прямым потомком — американским историком Александром Воронцовым-Дашковым.
Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и в опале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Через неделю после церемонии открытия академии на втором собрании И. П. Елагин рекомендовал немедленно начать работу над академическим словарем. За время пребывания Дашковой на посту президента величайшим достижением Российской академии стал шеститомный «Словарь Академии Российской», который вывел Дашкову на передний край славянской лексикологии. Словарь был завершен за сравнительно короткий период в одиннадцать лет, и 4 августа 1789 года Лепехин объявил о начале публикации словаря, который появился в Петербурге в 1789–1794 годах в шести частях и содержал 43 257 дефиниций [475] . Чтобы закончить «Флорентийский академический словарь», потребовалось 39 лет, а «Французский академический словарь» — 59 лет. Основанная на модели «Французского академического словаря» работа Дашковой была первым толковым, нормативным словарем, являвшимся серьезным достижением русской лексикографии. Николай Карамзин и Александр Пушкин были среди тех, кто высоко его ценил [476] . Пушкин с похвалой отозвался о нем в статье «Российская Академия», опубликованной в 1836 году в «Современнике», и упомянул о нем в первой главе «Евгения Онегина»: «Хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь» [477] .
Организационный комитет проекта состоял из Фонвизина, Леонтьева и Румовского, тогда как Лепехин, перегруженный обязанностями секретаря Российской академии, не мог активно участвовать в работе комитета. Фонвизин, опытный писатель, переводчик и сочинитель, играл ведущую роль на этапе подготовки и 11 ноября 1783 года представил «Начертание словаря». Дашкова также играла важную роль в составлении словаря и поддержала спорное предложение Фонвизина структурировать его этимологически. В 1786 году академики решили принять алфавитный порядок словаря, хотя Дашкова сама предпочитала порядок этимологический. Она осталась на своей позиции и со временем смогла убедить других перейти на ее сторону. Составители словаря в конце концов пришли к компромиссу, и, представляя проект императрице, Дашкова уверила ее, что приблизительно через три года она выпустит новое, упорядоченное по алфавиту издание словаря. Фактически же это случилось значительно позже — в 1806–1812 годах.
В соответствии с рекомендацией Дашковой были созданы три рабочие группы: грамматическая, толковательная и издательская. Дашкова входила во вторую и по большей части проводила встречи в своем доме на Английской набережной, 16. Работа над словарем свела вместе целое поколение писателей и ученых, которые столкнулись с проблемами орфографии, этимологии и упорядочивания современного словоупотребления и грамматики. Из 60 членов Российской академии 47 работали непосредственно над словарем, в их числе писатели Державин и Княжнин, естествоиспытатель Лепехин, астроном Румовский, математики Иноходцев и Котельников, историк Щербатов и многие другие. Романист Николай Эмин очень короткое время участвовал в работе, но привел все в крайний беспорядок и через неделю в ярости ушел служить в армию.
Дашкова полностью посвятила себя составлению словаря, вычитывала первые гранки и вносила свои исправления и комментарии на некоторых страницах. Она сама собрала и описала более семисот слов из областей морали, политики и управления. Когда она подошла к толкованию значений слов, то неизбежно воспользовалась собственным опытом. Очень вероятно, что она думала о прошлых действиях Екатерины по отношению к ней, когда писала, что чувство справедливости определяет истинно добродетельную личность. Опять же думая о Екатерине, Дашкова обеспокоилась неадекватностью обычных определений слова «дружба». Ее недовольство было следствием отношений с Екатериной и разочарования в искренности чувств императрицы [478] . Обсуждение во «Французском академическом словаре» не удовлетворило ее, и она посвятила много времени поиску определения, которое преодолело бы предсказуемые категории возраста, пола и контекста. Прежде всего, дружба не может существовать без обоюдной любви и, добавляет Дашкова, «дружба основана на почтении и доверии, она священна. Она главная опора человека в борьбе с невзгодами, его спасительная сила. Дружба необходима для достижения просвещенного общества» [479] . Святость дружбы для Дашковой, особенно в свете двуличности императрицы, служила упреком Екатерине. По контрасту, Дашкова хранила как сокровище веер, подаренный ей Екатериной четверть века назад, и носила платок Кэтрин Гамильтон до самой старости. Княгиня призналась брату Александру, что ее понимание дружбы слишком романтично, но ее принципы неколебимы. Она была сентиментальной личностью, желавшей быть открытой и преданной своим друзьям. Следовательно, она страдала, когда люди (даже такие, как Екатерина) относились к ней иначе [480] .
Конкурирующий проект усложнил работу Дашковой и еще раз привел ее в прямой конфликт с ее бывшей подругой — императрицей. Екатерина интересовалась этимологией и начала работу над сравнительным словарем всех языков и диалектов под названием «Linguarum totius orbis vacabularia comparative» («Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы»). Пятьсот экземпляров в четырех томах появились в Петербурге с 1787 по 1791 год под редакцией врага Дашковой П. С. Палласа. Выбор слов и их порядок в словаре отражали представления XVIII века о иерархии, основанной на вере и семье. Первые четыре слова были «Бог», «небо», «отец» и «сын» с переводами на две сотни языков, начиная со славянских и кончая гавайским. Поиски определений дают еще один пример важной роли Бенджамина Франклина и Американского философского общества в российско-американских научных связях XVIII века. Лафайет [481] , который был тогда во Франции, получил вопрос касательно туземных американских диалектов и, в свою очередь, написал другому члену Философского общества — Джорджу Вашингтону, а затем и его президенту Бенджамину Франклину. Они прислали Екатерине «Словарь языков шауни и делавэров… краткий образец языка южных индейцев» и другую информацию [482] . На Дашкову, однако, это не произвело впечатления. Она была обижена, как она считала, этой попыткой Екатерины отвлечь внимание от работы Российской академии. С горечью она писала: «Странное это произведение представлялось несовершенным и бесполезным и внушало мне какое-то отвращение, хотя его превозносили как восхитительный словарь» (170/162). Конкуренция, которую она ощущала от проекта Екатерины, и ее большая нелюбовь к главному редактору Палласу, без сомнения, в большой степени определили суждение Дашковой.
Дашкова работала над словарем, управляла двумя академиями, но более всего беспокоилась о своих детях, поскольку отношения с сыном Павлом и дочерью Анастасией приносили ей много горя. В начале 1783 года Павел отправился с Потемкиным на юг России. Отъезд сына сильно повлиял на тоскующую и чрезмерно заботливую мать. Беспокоясь о его состоянии, Дашкова еще 14 августа 1782 года написала письмо самому Потемкину, умоляя его как следует заботиться о сыне и не посылать в те места, климат которых мог быть вредным для здоровья. Она просила князя разрешить Павлу съездить к матери. Дашкова часто писала Потемкину и через шесть лет в письме от 17 сентября 1789 года повторила те же просьбы [483] . Она говорила всякому, кто соглашался слушать, о том, как грустит и скучает, и даже написала Робертсону в Эдинбург, объясняя, что ее сын теперь служит в полку и, поскольку он в добром здравии и выполняет свой долг, она не может жаловаться на его отсутствие. Он, согласно Дашковой, отсутствовал уже восемнадцать месяцев, что «для страстно любящей матери… все же слишком много» [484] . Княгиня делала все возможное, чтобы сын вернулся. Она посылала ему деньги и переписала на него все отцовское наследство, которое значительно выросло под ее управлением. Получив звание полковника, Павел приехал к матери зимой 1786 года, и опять всплыли старые сплетни о его причастности к избранной группе потенциальных любовников Екатерины. Дашкова изо всех сил это отрицала и даже угрожала покинуть Россию. «Я же слишком люблю императрицу, чтобы противиться чему-либо доставляющему ей удовольствие, но перестала бы уважать себя, приняв участие в переговорах такого рода. Если же когда-нибудь мой сын станет фаворитом, мне только раз понадобится его влияние — чтобы получить отпуск на несколько лет и паспорт для поездки за границу» (174/165).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: