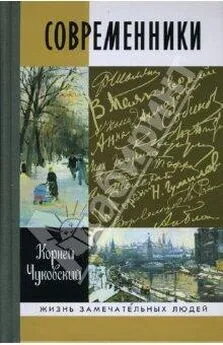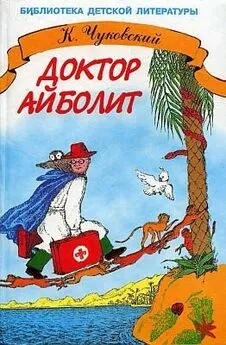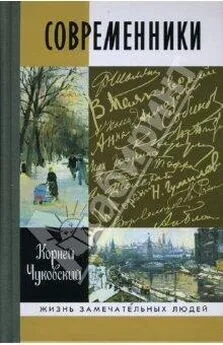Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
- Название:Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1967
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями) краткое содержание
Мемуарно-художсственная книга известного советского писателя и литературоведа К. И. Чуковского представляет собой серию очерков-портретов деятелей русской культуры XIX–XX вв.: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, А. М. Горького, Л. И. Андреева, В. В. Маяковского, А. А. Блока, А. С. Макаренко, И. Е. Репина, Л. В. Собинова и других.
Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он чувствовал себя в «Сатириконе» чужаком и, помню, не раз говорил, что хочет уйти из журнала. Целый год, а пожалуй, и дольше, тянулись его распри с редакцией, и в конце концов он покинул ее.
Между тем сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть.
Но меньше всего походил он на баловня славы: очень чуждался публичности, жил (вместе с седоватой женой) в полутемной петербургской квартирке, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра же съехать.
Жена его, Мария Ивановна, была доктор философии. Она преподавала в высших учебных заведениях логику, и, признаться, я ее немножко побаивался. Да и он, кажется, тоже. [127] М. И. Васильева дожила до глубокой старости и умерла (во Франции) в 1961 году.
Кроме книг (а он всегда очень много читал), в его комнатах не было ни одной такой вещи, в которую он вложил бы хоть частицу души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья. С писателями он почти ни с кем не водился, лишь изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева, которые душевно любили его. Да и там при посторонних все больше молчал, и было в его молчании что-то колючее, желчно-насмешливое и в то же время глубоко печальное. Казалось, ему в тягость не только посторонние люди, но и он сам для себя.
Из его писем ко мне, относящихся к этому времени, у меня сохранилось всего лишь одно, где он, между прочим, пишет:
«…в общем так измотался, что минутами хочется уже никогда ничего не писать, не издаваться… плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии».
Его самого удручал сумрачный тон его первых «Сатир». В том же письме говорится:
«Книжка висит над головой и положительно мешает думать и работать — хочется уже выйти из круга ее мотивов, в нем становится тесно, но чтобы прислушаться к новым голосам в самом себе — надо хоть иллюзию спокойствия».
Но никакого спокойствия в его характере не было.
Даже знаменитое имя свое, которое было в ту пору у всех на устах, сильно раздражало его.
— Здравствуйте, Саша, — приветствовал его на Невском один журналист.
— Черт меня дернул придумать себе такой псевдоним! — сердито сказал мне поэт. — Теперь всякий олух зовет меня Сашей.
Вообще он держал себя гордо и замкнуто. Фамильярничать с собой не позволял никому. Поэтому велико было мое удивление, когда в одно из воскресений на Крестовском в летний горячий день я услыхал десятки голосов, звонко кричавших ему: «Саша, Саша, скорее сюда!» — и увидел, что он не только не чувствует себя оскорбленным, но охотно откликается на эти призывы. Он сидел полуголый в лодке, взятой, очевидно, напрокат, и его черные глаза маслянисто поблескивали. Лодка была полна малышей, лет семи или немного постарше, которых он только что прокатил до моста и обратно, и теперь его ждали другие, столпившиеся неподалеку на сваях: «Саша, сюда, сюда!» Он бережно высадил одних пассажиров и, наполнив свою лодку другими, тотчас же пустился в новый рейс.
Все это были дети из прибрежных дворов, незнакомые дети, которых он прежде никогда не видал, да и они знали про него лишь одно: что он — Саша. Обычно они околачивались на берегу целый день и безнадежно кричали каждому из проплывающих в лодке: «Дяденька, прокати!» Но те даже не глядели в их сторону. На этот раз мальчишкам посчастливилось: нашелся такой удивительный «Саша», который услыхал их мольбу, и по лицу его я не мог не заметить, что здесь, на природе, среди детей, он совершенно другой. Волосы у него растрепались, плечи молодо выпрямились, трудно было поверить, что этот беззаботный гребец еще так недавно твердил в отчаянно-горьких стихах, что его —
…так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой…
Я хорошо помню то мрачное время: 1908–1912 годы. Обычно, вспоминая его, говорят о правительственном терроре, о столыпинских виселицах, о разгуле черной сотни и т. д. Все это так. Но к этому нужно прибавить страшную болезнь вроде чумы или оспы, которой заболели тогда тысячи русских людей: опошление, загнивание души, потому что наряду с политической реакцией свирепствовала в ту пору психическая; она отравила умы и чудовищно искалечила нравы. Тяжелее всего поразила она так называемых «культурных людей» — тех самых, кого в девятьсот пятом году взметнуло кверху революционной волной, а теперь бросило в глубь обывательщины — к «мелким помыслам, мелким страстям».
Никогда еще обширные слои интеллигенции не были так оторваны от народных интересов и нужд.
Отбой, отбой!
Окончен бой! —
на все лады повторяли они про революцию девятьсот пятого года.
И многими из них этот отбой ощущался как жизненный крах. Начались повальные самоубийства: что ни день в одном лишь Петербурге люди стали десятками вешаться, стреляться, топиться, и это сделалось бытовым, заурядным явлением, ежедневной рубрикой газет. Смерть оказалась излюбленной темой тогдашних повестей и романов, ее воспевали в восторженных гимнах, из нее создавали культ. Наряду с этим — как проявление того же отрыва от идеалов «гражданственности» — небывалый расцвет порнографии, повышенный интерес к эротическим, сексуальным сюжетам:
«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла проблема Пола,
Румяная Фефёла,
И ржет навеселе.
И — как апогей обывательщины — эпидемия утробного смеха: вдруг в литературу проник целый отряд смехачей-балаганщиков, появилось множество хихикающих, зубоскалящих книжек, и на фоне массовых виселиц, самоубийств, расстрелов их жирный, утробный, обывательский смех зазвучал особенно зловеще, очень внятно свидетельствуя о духовном оскудении громадного слоя «культурных людей».
Все мозольные операторы,
Прогоревшие рестораторы,
Остряки-паспортисты.
Шато-куплетисты и биллиард-оптимисты
Валом пошли
В юмористы.
Сторонись!
Против этой-то мрачной эпохи и восстал тогда в своих сатириконских стихах Саша Черный. Он не только проклинал ее, не только издевался над нею, но мало-помалу нашел другой, более действенный метод сатиры: надел на себя самого маску ненавистного ему обывателя и стал чуть не каждое стихотворение писать от имени этой отвратительной маски.
Если читать его сатиры одну за другой, покажется, что перед тобою дневник растленного интеллигента той эпохи, где отразился до мельчайших подробностей весь обиход его жизни.
Такие сатирические маски создавались в нашей литературе не раз: вспомним Козьму Пруткова, созданного Алексеем Толстым и Жемчужниковыми, а также горбуновского генерала Дитятина. У Саши Черного, как и у тех литераторов, подлинная личность писателя подменена такой маской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: