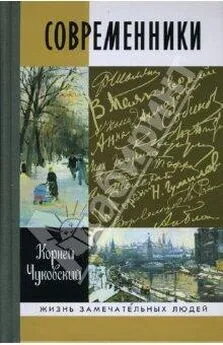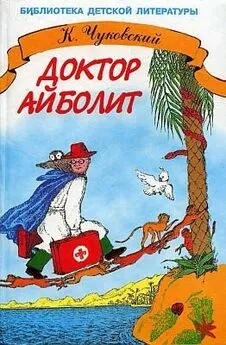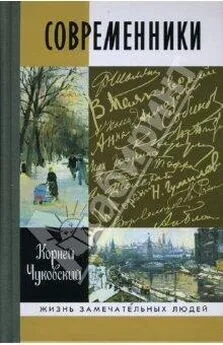Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
- Название:Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1967
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями) краткое содержание
Мемуарно-художсственная книга известного советского писателя и литературоведа К. И. Чуковского представляет собой серию очерков-портретов деятелей русской культуры XIX–XX вв.: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, А. М. Горького, Л. И. Андреева, В. В. Маяковского, А. А. Блока, А. С. Макаренко, И. Е. Репина, Л. В. Собинова и других.
Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наконец-то я могу произнести эти слова: могучая воля. С каким удовольствием вписываю я их сюда, в эту книжку! Все, что было сказано до сих пор, говорилось с единственной целью заявить наконец эту еретическую правду о Чехове и продемонстрировать ее с такой наглядностью, чтобы даже несмышленые поняли, что основой основ его личности была могучая, гениально упорная воля. Эта воля сказывалась в каждом факте его биографии и раньше всего, как мы видели, в том, что, создав себе с юности высокий идеал благородства, он властно подчинил ему свое поведение. В России было много писателей, жаждавших построить свою жизнь согласно велениям совести: и Гоголь, и Лев Толстой, и Некрасов, и Лесков, и Глеб Успенский, и Гаршин, и мы восхищаемся их тяготением к «правильной», праведной жизни, но даже им этот нравственный подвиг был иногда не под силу, даже они порою изнемогали и падали. А с Чеховым этого, кажется, никогда не бывало: стоило ему предъявить к себе то или иное требование, которое диктовала ему его совесть, и он выполнял его.
«Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений», — сказал он о себе. И мы только что видели это своими глазами: едва в конце восьмидесятых годов он пришел к убеждению, что его художественная деятельность не нужна для России, он круто оборвал ее в то самое время, когда она несла ему славу и прочие житейские блага, в которых он так сильно нуждался.
«Я еду — это решено бесповоротно!» — писал он Плещееву накануне сахалинской поездки, ибо все его решения всегда но сили бесповоротный характер. «Решить у него значило — сделать», — свидетельствует о нем Игнатий Потапенко. Необходима была железная воля, чтобы, испытывая невыносимые муки от езды по бездорожьям Сибири, не повернуть откуда-нибудь из Томска домой, а проехать до конца все одиннадцать тысяч верст.
Но ярче всего эта могучая воля сказывается в писательстве Чехова. Великолепная самостоятельность всех его вкусов и мнений, его дерзкое презрение к тогдашним интеллигентским — уже окостенелым — идеалам и лозунгам, которое так отпугнуло от него кружковую либеральную критику, деспотически требовавшую, чтобы он подчинял свое вольное творчество ее сектантским канонам, — какой нужен был для этого сильный характер!
Какая в самом деле нужна была сила духа, чтобы среди нетерпимых, узколобых людей, воображающих себя либералами, развернуть свое знамя, на котором написано крупными буквами:
«Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода — свобода от силы и лжи»… «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, [18] Консистория — главная канцелярия церковного ведомства.
так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи».
Как бы мы ни оценивали этот вызов эпохе, этот бунт против ее святынь и канонов, — мы должны признать, что в ту пору нужна была неслыханная смелость для такого отстаивания личной свободы. Пусть даже впоследствии выяснилось, что Чехов был во многом не прав, эта внутренняя свобода убеждений и верований была отвоевана им навсегда и чувствовалась всеми до конца его дней как одна из привлекательнейших черт его личности.
Это ощущал в нем Горький, который писал ему с удивлением и радостью:
«Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел».
«Между нами вы — единственно вольный и свободный человек, и душой, и умом, и телом вольный казак, — писал ему Владимир Тихонов в восьмидесятых годах, — Мы же все „в рутине скованы, не вырвемся из ига“».
Иван Бунин в своих воспоминаниях о Чехове тоже восхищается его духовной свободой и говорит, что в основе этой свободы было великолепное спокойствие Чехова. «Может быть, именно оно, — пишет Бунин, — дало ему в молодости возможность не склоняться ни перед чьим влиянием и начать работать так беспритязательно и в то же время так смело, без всяких контрактов со своей совестью».
Мне сдается, что одного спокойствия для этого мало: чтобы в рабьем обществе завоевать себе максимум возможной в ту пору свободы, нужна была раньше всего необыкновенная упорная воля. И разве не такая же воля ощущается в нем как в писателе, как в новаторе литературного стиля! Замечательно, что нигде, ни в беседах, ни в письмах, он ни разу не назвал себя новатором. Между тем и в драме и в беллетристике он произвел революцию и бился за созданную им новую форму нисколько не меньше, чем, например, Золя за свою. В драме ему было бы очень нетрудно угодить общепринятым вкусам: он виртуозно владел внешней динамикой быстрого действия и вообще всеми ходовыми театральными формами, но он властно отверг эти формы и, не сделав ни малейшей уступки, завоевал себе право на собственный стиль.
Даже в самом лаконизме его творчества, этих стальных конструкциях, которые делают короткий рассказ динамичнее любого романа, в его власти над словом, в том, как смело и победоносно распоряжается он своим материалом, чувствуется напряженная мускулатура гиганта.
Всюду, везде, до конца — несгибаемая, могучая воля.
И если бы мы ничего не знали о Чехове, а только проследили бы по его переписке, как он в предсмертные месяцы, наперекор своей страшной болезни, снова и снова садится за стол и между приступами тошноты, кровохарканья, кашля, поноса пишет холодеющей белой, как из гипса, рукой свою последнюю пьесу — по две строчки в день, да и то с перерывами, так что рукопись до целым неделям лежит у него на столе, а он глядит на нее издали, томится и мается и не может вписать в нее ни единого слова и все же заканчивает работу в назначенный срок — все же побеждает свои немощи творчеством, — если бы мы видели Чехова только в эти предсмертные месяцы, мы и тогда убедились бы, что это героически волевой человек. Писание «Вишневого сада» в тех условиях, в каких происходило оно, представляло для него такие же непреодолимые трудности, как и поездка на каторжный остров, — но и там и здесь он не отступил перед ними. «Слабость и вялость душевных движений» были чужды ему даже у края могилы.
Но почему я так много толкую об этом? Разве это не очевидно для каждого? В том-то и чудо, что нет. Если бы я вздумал цитировать те статьи и брошюры о Чехове, где его изображали «слабовольным», «пассивным», «бесхарактерным», «недеятельным», «вялым», «бессильным», «анемичным», «инертным», «дряблым», мне понадобились бы сотни и сотни страниц. Вся критика восьмидесятых, девяностых, девятисотых годов только и долбила об этом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: