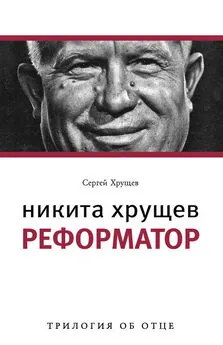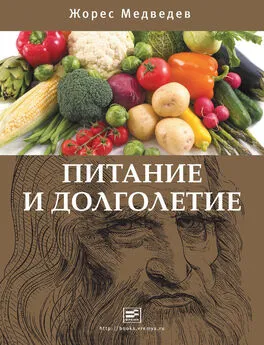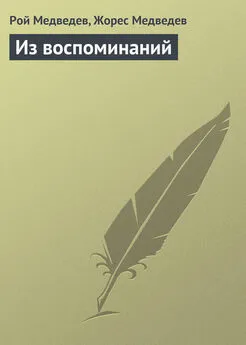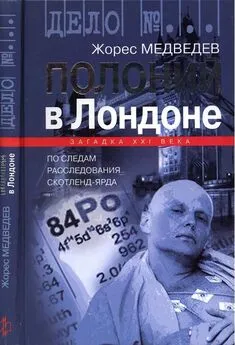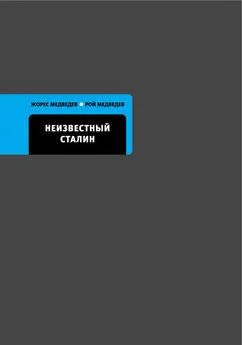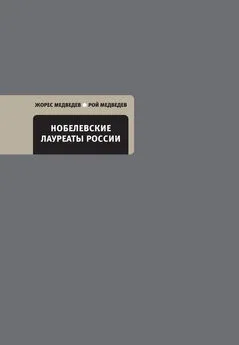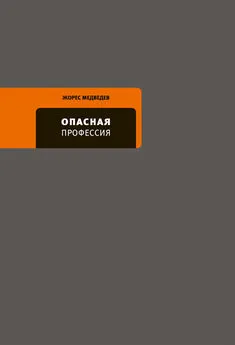Жорес Медведев - Никита Хрущев
- Название:Никита Хрущев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорес Медведев - Никита Хрущев краткое содержание
В очередной том собрания сочинений Жореса и Роя Медведевых вошли книги «Никита Хрущев. Годы у власти» (1975) и «Никита Хрущев. Политическая биография» (2006). Три с лишним десятилетия, разделяющие эти публикации, создают совершенно особый «стереоэффект». В первой книге «Хрущев и его время – это еще живая история, пережитые надежды и разочарования, энтузиазм и горечь, восхищение его смелыми международными и внутренними политическими реформами и возмущение его иногда поразительной неграмотностью в сравнительно простых экономических, сельскохозяйственных и теоретических проблемах. Это обида за то, сколь много мог сделать Хрущев для СССР и всего мира после своего блестящего старта в 1953–1956 году и сколь малым оказался его реальный вклад». Во второй книге эмоции уступают место более спокойному и взвешенному анализу эпохи Хрущева: «Новое поколение советских руководителей было “поколением XX съезда”, и это придает дополнительную важность изучению политической биографии этого, бесспорно, одного из наиболее выдающихся политиков XX века».
Никита Хрущев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сотни тысяч вернувшихся из лагерей представителей интеллигенции и бывших партийных работников заметно изменили и атмосферу политической жизни в стране, особенно в Москве, в Ленинграде и в других культурных центрах. В отдельных случаях разоблачения Сталина вызывали напряжение иного характера. В Грузии, например, начались антихрущевские волнения против попыток разоблачения «великого сына грузинского народа». Волнения сопровождались столкновениями с войсками и жертвами. Очаги напряжения возникли в других социалистических странах, в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, в Чехословакии, Албании и в Китае. Для лидеров этих стран доклад Хрущева был полной неожиданностью. Хрущев не учел, что многие из них были ставленниками Сталина и Берии и что для укрепления своего собственного «культа» они пользовались теми же методами жестокого террора и не в далекие уже 1937–1938 годы, а в недавние, столь еще памятные времена 1948–1952 годов. Руководство компартий этих стран оказывало на ЦК КПСС сильное давление, чтобы остановить десталинизацию. Непосредственно в Президиуме ЦК КПСС Маленков, Каганович, Ворошилов и Молотов также стали в явную оппозицию новому курсу полной десталинизации. На ХХ Съезде в «секретном» докладе Хрущева содержались обвинения главным образом против Сталина, Ежова и Берии и ряда работников карательных органов. Неофициально высказывались мнения, что другие члены руководства, такие как Хрущев, Молотов, Каганович, Ворошилов, Маленков, не только не принимали активного участия в репрессиях, но даже сдерживали Сталина. Сложная ситуация вокруг «секретного» доклада Хрущева, затрагивавшая и интересы влиятельных группировок в руководстве зарубежными компартиями, привела к отступлению Хрущева и принятию резолюции ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий», которую составили совместно Молотов, Маленков, Каганович и Ворошилов. Эта резолюция, опубликованная во всех газетах, отдавала должное заслугам Сталина перед партией, страной и международным революционным движением и старалась характеризовать его преступления лишь как злоупотребления властью. При этом масштабы этих злоупотреблений были уменьшены, и утверждалось, что основное «ленинское ядро» Центрального Комитета было сохранено и при Сталине и оно оказывало сдерживающее влияние на его деятельность, хотя и не было в состоянии удалить Сталина с его поста.
Однако эта умеренная резолюция уже не могла сдержать событий, вызванных докладом Хрущева. Волнения в Польше осенью 1956 года были непосредственно связаны с дискредитацией прежнего руководства Польской компартии и привели к радикальным изменениям в рядах Польского ЦК (приход к власти В. Гомулки). Более драматично развивались события в Венгрии, где кровавый террор ставленника Сталина и Берии Ракоши был еще свеж в памяти народа. Диктатура Венгерской компартии стала разваливаться очень быстро, и после долгих колебаний Хрущев отдал приказ о применении советских войск против венгерских повстанцев. Прежде чем принять это решение, он обратился к руководству всех стран Варшавского пакта и к руководству Китайской компартии с вопросом, возможно ли применить вооруженные силы для подавления восстания. Из всех стран, включая Польшу, были получены положительные ответы. Мао Цзэдун, одобряя необходимое использование вооруженных сил, упрекнул Хрущева за то, что совета у Китая он попросил слишком поздно – это нужно было сделать до того, как чернить на ХХ Съезде КПСС великого вождя международного рабочего движения, верного марксиста-ленинца товарища Сталина.
Китай этим письмом ясно давал понять, что Хрущев отныне уже не может быть лидером международного коммунизма, что он предал идеалы марксизма-ленинизма, стал ревизионистом и что руководящая роль в мировом коммунистическом движении будет теперь принадлежать Китайской компартии, на знамени которой Сталин по-прежнему занимал место между Лениным и Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун, однако, стал со временем хоть и пятым по счету классиком марксизма на плакатах (после Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина), но его профиль рисовали заметно крупнее остальных – вольность, на которую Мао не решался ни при жизни Сталина, ни до разоблачений Сталина на ХХ Съезде КПСС.
Глава 8 Новые экономические реформы и политический кризис в 1957 году
1956 год был успешным по производству зерна, но в стране все еще резко не хватало продуктов. Разоблачение сталинизма на ХХ Съезде и массовые реабилитации политических заключенных хоть и обеспечивали популярность Хрущева среди многих слоев населения, создавали тем не менее серьезный идеологический вакуум. Для всего мира стало теперь очевидно, что система управления советского типа, возникшая в результате революции, не смогла развиваться на основе закона и конституции, не гарантировала элементарных демократических свобод граждан и соблюдения их прав и опиралась на массовый террор. Можно было ожидать, что после ХХ Съезда с этим будет покончено навсегда, но уже события 1956 года: мягкая и компромиссная резолюция «О преодолении последствий культа личности», военное подавление венгерского восстания, обострение отношений с Югославией и ряд других явлений свидетельствовали о том, что слишком решительная политика в направлении десталинизации и демократизации подвергается ревизии, как под давлением изнутри, так и со стороны руководства других коммунистических партий.
В культурной жизни страны главным показателем «либерализации» стала публикация в «Новом мире» в августе-октябре 1956 года романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», который произвел большую сенсацию в литературных и интеллектуальных кругах и был единодушно поддержан на многих дискуссиях. Он был резко антибюрократическим и показывал, что существовавшая при Сталине система произвола и бюрократии порождала особую «элиту», препятствовавшую и техническому прогрессу общества. Но в конце 1956 года Хрущев лично подверг роман Дудинцева критике, как якобы антисоветский. «Оттепель» (выражение Ильи Эренбурга) в литературе подходила к концу. Именно в это время был отвергнут представленный для публикации роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» – но эта история стала известна только в 1958 году, когда Пастернак получил Нобелевскую премию. Настораживали и некоторые другие ретроградные ноты в многочисленных выступлениях Хрущева, старавшегося теперь немного обелить Сталина как партийного и государственного деятеля.
Подобный осторожный поворот в консервативную сторону был попыткой остановить разоблачения террора и произвола, практически начавшегося отнюдь не с убийства Кирова в 1934 году и не ограничившегося уничтожением партийных деятелей, миллионы которых были теперь реабилитированы (хотя на ХХ Съезде Хрущев сообщил о реабилитации немногим больше 7 тысяч партийных работников). Вставал вопрос и о реабилитации членов реальных оппозиций Сталину, осужденных на «открытых» процессах (Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков и сотни других) и о пересмотре всей политики партии после Октябрьской революции. Неизбежны были разоблачения репрессий в период коллективизации, процессов 1929–1930 годов и многого другого, включая вопрос о Л. Троцком. Хрущев и его коллеги сравнительно легко пошли на пересмотр политики репрессий, затрагивавших партийных и государственных работников их поколения, по существу – элиты конца тридцатых и сороковых годов, но они не могли колебать прочные устои собственной власти, полученной отнюдь не демократическим путем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: