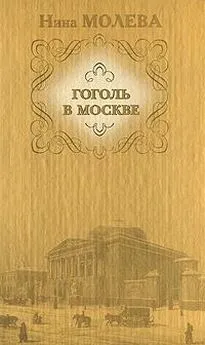Нина Молева - Призрак Виардо. Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева
- Название:Призрак Виардо. Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2008
- ISBN:978-5-9265-0603-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Молева - Призрак Виардо. Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева краткое содержание
Обращаясь к биографии великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, стало привычным называть имя знаменитой певицы Полины Виардо как предмета его многолетнего увлечения, в какое-то время любви и, во всяком случае, многолетней привязанности. Эти сложные отношения действительно существовали, приносили светлые минуты, но гораздо чаще тяжелые, безысходные, не дававшие вырваться из заколдованного круга, как говорил сам писатель, несвободы.
А между тем были в его жизни всплески иных чувств, надежды на создание семьи, обретения любимого и преданного существа, самоотверженного, понимающего все душевные движения, жены-друга. Три женщины прошли в разное время через его дни, позволив писателю создать неповторимые по чистоте, благородству и преданности образы героинь его произведений — тургеневских девушек, тургеневских женщин.
Призрак Виардо. Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разразившаяся в Богдановке буря ошеломила всю семью. Нина Илларионовна потребовала немедленного развода. Каждый день в Богдановке становился пыткой. В преддверии учебного года дети были перевезены в ливенский городской дом. Возвращаться без них в поместье тихий и мечтательный Стефан Львович не находил ни сил, ни смысла. Его слова об отъезде на некоторое время к кузинам в Спасское не нашли отклика. Нина Илларионовна подтвердила, что их развод — дело самого ближайшего времени. Богдановский помещик оказался в полузаброшенном Спасском. От большого дома он отказался. Ему устроили комнату во флигеле с обстановкой, когда-то перевезенной из тургеневского дома на Остоженке. В Москве.
О семейных неурядицах среди родственников не было принято говорить. Каким-то чудом все все знали, но огорчения не могли служить предметом обсуждения. Хватало «теплых тем», по выражению Стефана Львовича, и без них. О них говорили при встречах, писали в длинных и обстоятельных письмах. Можно было подумать, что дамские «кабинеты» — маленькие дамские бюро существовали специально, чтобы часами описывать близким людям свои переживания.
С. П. Лихнякович — С. Л. Лаврову (без даты, угол 1-го л. оторван)
«…Твои воспоминания о лютиках всех нас очень тронули. В самом деле нигде в уезде нет таких лютиковых полей, как в саду Спасского. Но не такие это сорняки, как кажется. Недавно у Лаврецких нам пришлось слышать целую лекцию о том, что принадлежат они к одному семейству и с пионами, и с анемонами, и с диким хмелем. Не знаю, сколько в этом правды, но что называется лютик Адонисом, это верно. Не тот ли, которым врачуют сердечные болезни?
… Слов нет, хорошо бы заняться садом, но все это чистое прожектерство. Когда-то им очень серьезно занимались, и вот результат — слишком тесно посаженные липки превратились в какой-то длинновязый сорт деревьев, которые изо всех сил, отталкивая друг дружку, тянутся к солнцу
(Тургениана. Вып. II–III. Орел, 1999.)С. П. Лихнякович — С. Л. Лаврову (на штемпеле письма — 1898 г.)
«…Неужели Володя Тезавровский и в самом деле решил заняться театром? От кого-то довелось слышать, что он вошел в предприятие некоего Алексеева, который вместе с Немировичем-Данченко устраивает труппу. Это может быть любопытно, но разумно ли вкладывать в подобное предприятие свои средства, да еще жертвовать землей? Может быть, тебе следовало бы вмешаться?.. Во флигеле все стоит сундук с театральными платьями времен покойницы. Там же расписанные по ролям пьесы. Всем этим богатством никто не интересовался. Так не будут ли они любопытны для нового театра? Во всяком случае, при встрече оповести о такой возможности Белого Мавра (прозвище Владимира Васильевича Тезавровского (1880–1955), одного из первых актеров Художественного театра, впоследствии режиссера и помощника К. С. Станиславского по созданию оперной студии и оперного театра в Минске)…»
(Тургениана. Вып. II–III. Орел, 1999.)Шли годы, но семейный конфликт не находил своего разрешения. Нина Илларионовна приехала на похороны мужа в Спасское, но не пожелала разговаривать с примчавшимся из Варшавы зятем. Брать оставшиеся после Степана Львовича мелочи отказалась. Она и в последующее время не отвечала на письма дочери, не приняла приглашения ее навестить в Варшаве, не пригласила к себе даже внучку.
Едва ли не первая красавица в военной среде Варшавы, Софья Стефановна успела окончить физико-математическое отделение Сорбонны, стать магистром математики, опубликовать несколько сообщений в научных бюллетенях, начать заниматься на историко-филологическом отделении Варшавского университета, и только страшный пожар в Спасском подтолкнул ее на немедленную поездку в родные места. Богдановка по-прежнему для нее закрыта. Зато в Спасском она получает предложение забрать «все вещи из сна» — о варшавском видении знали все родственники. Но если так, она берет два паласа — «тот, который на стене» и «тот, который у ног» — и Псалтырь. Их уложили в два саквояжа, найденных в кладовке — из тех, с которыми в последний раз приезжал из Парижа Тургенев и которые не пожелал брать обратно из-за их громоздкости.
C. C. Матвеева — C. П. Лихнякович (Париж, 1907. Черновик)
«…He могу примириться с несчастьем. Неужели большого дома больше нет? Ведь какие-то вещи там оставались, а восстанавливать его дело слишком дорогостоящее. Пока-то соберешься с деньгами. Мне стыдно за мой непомерный эгоизм, но я все думаю о тех немногих мелочах, которые остались после папы и за которыми я все не могла собраться поехать.
…О книгах не беспокойтесь: все ли, нет ли, но кое-какие переехали на Королевскую (в Варшаве). Если будет в них нужда в связи с музеем, Иван Гаврилович найдет способ их переправить. Никаких трудностей не будет. Две их них (с надписями Лавровых) мне показались особенно интересными. Это Explication des gr Peinture, Sealpture, Architecture et navures, des Artistes vivas, exposes au Musee Napoleon le I en Novembre 1812. [Paris. Dubrag.1812] и Le chevalier de Maison-Rouge par Alexandre Dumas. Paris-1852. Chez Mareseq et С («Пояснение к произведениям, живописи, скульптуры, архитектуры с 9 гравюрами, портретами ныне живущих художников, выставленных в музее Наполеона I ноября 1812. (Париж. Дюбраг. 1812) и «Кавалер де Мезон-Руж» Александра Дюма. Париж. 1852. Изд.
Мареск и К). Дюма — это целый фолиант с богатыми иллюстрациями из издания сочинений. Мне кажется, обе книги куплены во Франции. Но есть и русская — инструкция, как морить клопов, 1842 года. На ее полях заметки от руки — может быть, кого-нибудь из старших?
(Тургениана. Вып. II–III. Орел, 1999.)С. С. Матвеева — С. П. Лихнякович [1908], Париж. Черновик.
«…Вам велела кланяться графиня Комаровская-старшая. Она прогостила прошедшую зиму вместе с фрейлиной Екатериной Леонидовной в Варшаве. Мать и дочь уверяли, что Володя Тезавровский очень хорош в Художественном театре, но почему-то больше всего хвалили его в Метерлинке, который мне никогда особенно не нравился. Вспоминали при случае о театре графа Евграфа в Городище, о лутовиновской театральной школе и о том, что многие роли и ноты оттуда до сих пор целы и все испещрены деловыми пометами. О таких же лутовиновских пометках говорили и братья Юрасовские…В родне нам по-настоящему не хватает человека, который бы отдал все время историческим изысканиям. Сегодня они в необычайной моде…»
(Тургениана. Вып. II–III. Орел, 1999)Больше она не расстанется с паласами никогда. Вместе с ней они пройдут путь, который прошел штаб Западного фронта русской армии в Первую мировую войну, начиная с Минска. Потом будут Воронеж, Путивль, Орел, Ливны, откуда придется помогать выехать Нине Илларионовне, наконец, Москва, а в Москве сначала Большой Николопесковский переулок, в доме земляков Юрасовских, потом Замоскворечье, Пятницкая улица, дома ювелирных магнатов Исаевых, в приходе Троицы в Вешняках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: