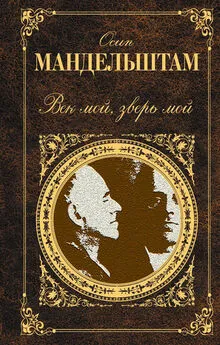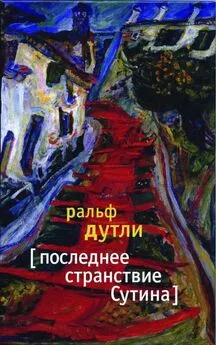Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Название:Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0346-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография краткое содержание
Немецкое издание книги Ральфа Дутли о Мандельштаме — первая на Западе полная биография одного из величайших поэтов XX столетия. Автору удалось избежать двух главных опасностей, подстерегающих всякого, кто пишет о жизни Мандельштама: Дутли не пытается создать житие святого мученика и не стремится следовать модным ныне «разоблачительным» тенденциям, когда в погоне за житейскими подробностями забывают главное дело поэта. Центральная мысль биографии в том, что всю свою жизнь Мандельштам был прежде всего Поэтом, и только с этой точки зрения допустимо рассматривать все перипетии его непростой судьбы.
Автор книги, эссеист, поэт, переводчик Ральф Дутли, подготовил полное комментированное собрание сочинений Осипа Мандельштама на немецком языке.
Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Качество перевода во всех этих случаях вовсе не принималось в расчет. Речь шла о массовом производстве бессодержательной бросовой литературы, говоря проще, — чтива для широкой публики, или изданий, якобы полезных для «строительства новой жизни». Отталкиваясь от собственного опыта, Мандельштам пишет несколько газетных статей против переводческой практики советских издательств, предавших забвению все литературные критерии и нацеленных исключительно на массовость и быструю реализацию. Благодаря своей полемической статье под названием «Потоки халтуры», напечатанной 7 апреля 1929 года в официальной правительственной газете «Известия», и другому, не менее резкому тексту, помещенному в июле 1929 года в журнале «На литературном посту» — главном органе пролетарских писателей, Мандельштам мало-помалу приобретает репутацию докучливого нарушителя спокойствия, назойливо твердящего о качестве и требующего конкретных перемен. Некоторые литературные функционеры только и ждали удобного случая, чтобы заткнуть рот «этому Мандельштаму», склочнику и «бывшему поэту».
В середине сентября 1928 года в Москве выходит роман о Тиле Уленшпигеле бельгийского писателя Шарля де Костера. Это, казалось бы, незначительное событие станет для Мандельштама началом конца. Еще в мае 1927 года он взял на себя обязательство: представить издательству «Земля и фабрика» литературную обработку двух старых переводов, принадлежащих Аркадию Горнфельду и Василию Карякину. Книга вышла, и на титульном листе стояло имя Мандельштама как переводчика (характерный пример издательской халтуры тех лет, которую Мандельштам пытался изобличить в своих статьях). Не чувствуя за собой никакой вины, Мандельштам написал ничего не подозревающему Горнфельду и предложил ему в качестве удовлетворения весь свой гонорар. Однако Горнфельд все же счел необходимым выступить в ленинградской «Красной Вечерней газете» и обвинить Мандельштама в краже литературного материала.
Мандельштам ответил возмущенным «Письмом в редакцию», напечатанным 12 декабря 1928 года в газете «Вечерняя Москва», в котором отводил от себя — «как русский поэт и литератор» (IV, 101–103), — упрек в плагиате. Всего болезненней задело его упоминание о гоголевской «Шинели», обыгранной Горнфельдом и использованной им против Мандельштама. Эта повесть — одна из святынь русской литературы; в ней рассказывается о том, как у мелкого униженного чиновника Акакия Акакиевича ночью посреди площади отобрали шинель, которой он обзавелся с огромным трудом. «Все мы вышли из гоголевской шинели», — сказал однажды Достоевский. Публичный упрек в плагиате не имел поначалу никаких последствий. Лишь спустя пять месяцев — и через месяц после того, как Мандельштам напечатал в «Известиях» статью «Потоки халтуры», направленную против советских издательств, — в «Литературной газете» появляется провокационный фельетон под названием «О скромном плагиате и развязной халтуре». Его автором был некто Заславский, который, вытащив на свет полузабытую историю с Горнфельдом, обличал Мандельштама как плагиатора и литературного халтурщика.
Неделю спустя в «Литгазете» появилась короткая реплика Мандельштама по поводу клеветнической публикации Заславского, а также — письмо пятнадцати писателей, выступивших в поддержку Мандельштама; среди них были известные имена: Борис Пастернак, Борис Пильняк, Валентин Катаев, Юрий Олеша и Михаил Зощенко. Редакция «Литгазеты» сообщила, однако, о создании по ее просьбе конфликтной комиссии ФОСПа (Федерация объединений советских писателей); мол, газета желает дождаться решения комиссии, а затем — его опубликовать. Ряд писем Мандельштама, написанных в 1929 году, свидетельствует о той изнурительной и безнадежной борьбе, которую ему пришлось вести, чтобы опровергнуть обвинения в плагиате и халтуре. Сам Кафка не выдумал бы такого процесса! Судья объединял в своем лице обвинителя и заинтересованную сторону. Председателем «Конфликтной комиссии», первое заседание которой состоялось 22 мая 1929 года, был Семен Канатчиков, партийный работник, редактор «Литературной газеты» (которая и заказала Заславскому фельетон) и, кроме того, ответственный секретарь Федерации объединений советских писателей. Жуткое триединство, заранее превращавшее в фарс любую попытку объективно разобраться в этом конфликте. Спорное дело оказалось для литературных чиновников ФОСПа долгожданным поводом для того, чтобы расправиться с неугодным писателем: заставить его замолчать [256] «Дело о Тиле Уленшпигеле» нашло отражение в письме Мандельштама, направленном в редакцию газеты «Вечерняя Москва» (до 12 декабря 1928 г.), а также в письмах конца 1929 — начала 1930 года, обращенных в Центральную контрольную комиссию BKП (б), советским писателям и др. (см: IV, 101–103, 123–132). См. также послесловие и комментарий в кн: Mandelslam O. Du bist mein Moskau und mein Rom und mein kleiner David. Gesammelte Briefe. Aus dem Russischen übertragen und hcrausgegeben von R. Dutli. Zürich, 1999. S. 351–359, 456–459.
.
1929 год обернулся для русской литературы подлинной катастрофой. Это был закат советской литературы, в свой ранний период увлеченной смелыми экспериментами, пропитанной освежающим духом авангарда и склонной к многообразию. Художественное творчество все в большей степени определялось требованиями «социального заказа» и пафосом «социалистического строительства». Основанная на догме полуофициальная пропаганда, представленная РАППом (Российская ассоциация пролетарских писателей), изрыгала хулу и обрушивалась на всех тех, кто позволял себе отклониться от «пролетарской» линии. Жестокой травле подвергся в 1929 году, наряду со многими другими, Михаил Булгаков, выразивший своими гротескно-фантастическими произведениями, подобными «Собачьему сердцу» (1925), скепсис и неверие в «светлое будущее». Травля настигла и Евгения Замятина, автора пророческой антиутопии «Мы» (1920), и Бориса Пильняка, умудрившегося, ко всему прочему, напечатать свою разоблачительную повесть «Красное дерево» (1929) в Берлине — у «классового врага». Не удалось уйти от преследований и последней авангардистской группировке — «абсурдистам» во главе с Даниилом Хармсом и Александром Введенским; группа ОБЭРИУ, заклейменная как «литературное хулиганство», была полностью разгромлена в 1930 году. И даже Владимир Маяковский, «барабанщик революции», становился жертвой все более яростных нападок со стороны чиновников от «пролетарской литературы», упрекавших поэта в том, что он «непонятен массам». Оттесненный на обочину, он выбрал самоубийство и ушел из жизни в апреле 1930 года — задолго до начала Большого террора.
Писатели реагировали на травлю разными способами; но каждый способ был крайне сомнителен. Замятин, например, написал в 1931 году письмо Сталину, заявив о своем желании выехать за границу. Его просьба — случай исключительный! — была удовлетворена. (Замятин умер в Париже в 1937 году.) Михаил Булгаков, находясь в безвыходном положении, написал в 1930 году «письмо к правительству», но не получил разрешения на выезд. Пильняк же для видимости критиковал себя, обещал привести свои будущие романы в соответствие с партийной линией и переделывал в то же время отдельные части «Красного дерева» в роман «Волга впадает в Каспийское море». Пильняк был расстрелян в 1938 году. Хармс и Введенский обратились к детской литературе — оба погибнут зимой 1941–1942 года в заключении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: