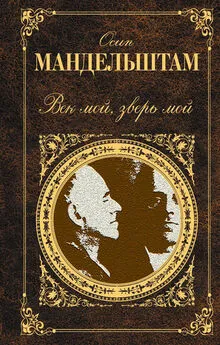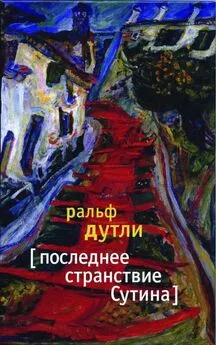Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Название:Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0346-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография краткое содержание
Немецкое издание книги Ральфа Дутли о Мандельштаме — первая на Западе полная биография одного из величайших поэтов XX столетия. Автору удалось избежать двух главных опасностей, подстерегающих всякого, кто пишет о жизни Мандельштама: Дутли не пытается создать житие святого мученика и не стремится следовать модным ныне «разоблачительным» тенденциям, когда в погоне за житейскими подробностями забывают главное дело поэта. Центральная мысль биографии в том, что всю свою жизнь Мандельштам был прежде всего Поэтом, и только с этой точки зрения допустимо рассматривать все перипетии его непростой судьбы.
Автор книги, эссеист, поэт, переводчик Ральф Дутли, подготовил полное комментированное собрание сочинений Осипа Мандельштама на немецком языке.
Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Положение изгоя определяет своеобразие его творческого процесса, ведет к отказу от «письма» и поэтической работе «с голоса»: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет» (III, 171). Не удивительно, что «Четвертая проза», этот манифест писателя, убежденно стоящего вне «литературы», возвращает Мандельштама и к гордому осознанию своей причастности к еврейству:
«…писательство […] несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья» (III, 175).
Чтобы выразить свое презрение к «писателям», Мандельштам пользуется устоявшейся формулой, оскорбительной по отношению к цыганам. Однако в другом месте, пытаясь найти образ, выражающий его пограничное состояние и обособленность, он подчеркивает свою принадлежность к цыганам: «У цыгана хоть лошадь была — я же в одной персоне и лошадь, и цыган…» (III, 178). В целом же памфлет Мандельштама — это открытое обвинение, брошенное в лицо «убийцам русских поэтов» и их приспешникам, официальным писателям-приспособленцам:
«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух» (III, 171).
Приговор советским писателям, вынесенный Мандельштамом, распространялся не на всех авторов того времени. Он выделяет сатирика Михаила Зощенко, «единственного человека, который нам показал трудящегося» и которого «втоптали в грязь». «Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам…», — восклицает Мандельштам (III, 178–179). Он приводит также строчку Сергея Есенина («Не расстреливал несчастных по темницам…») и восхищенно комментирует: «Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы» (III, 173).
Отношения Мандельштама с Есениным, покончившим в декабре 1925 года самоубийством в ленинградской гостинице «Англетер», всегда были непростыми. В бурную пору имажинистского движения 1919–1921 годов Есенин не раз осыпал Мандельштама бранью и ругал его стихи (правда в узком кругу он называл их «прекрасными»), Мандельштам же поначалу считал Есенина самовлюбленным нарциссом, который якобы знает лишь одну тему: «Я — поэт» [259] О взаимоотношениях с Есениным см.: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников С. 89–94 (запись беседы В. Д. Дувакина с Н. Д. Вольпин).
. Высококультурные акмеисты сторонились крестьянского поэта и задиристого имажиниста. Но когда Ахматова сказала однажды что-то неодобрительное об Есенине, Мандельштам тут же возразил, что Есенину все можно простить за одну-единственную строчку: «Не расстреливал несчастных по темницам» [260] Ахматова А. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 4.
. Эту же строчку из стихотворения «Я обманывать себя не стану…» (1922), вошедшего в сборник «Москва кабацкая» (1924), он превозносит и в «Четвертой прозе».
В этом произведении бичуются советская журналистика, издательское дело, лицемерная литературная критика. Но «Четвертая проза» обличает и «кровавую советскую землю», разложение молодежи, одичание и насилие сталинской эпохи, дух самосуда и жажду расправы, расстрелы без суда и следствия и недостаток мужества у тех, кто, стоя в стороне, не находит в себе сил для заступничества. Разоблачение коснулось в этом тексте и главного действующего лица той эпохи — в словах о детях, чьи отцы «запроданы рябому черту на три поколения вперед» (III, 171). «Рябой черт» — первая из многих едких характеристик, коими наделит Мандельштам диктатора Сталина в последующие годы. Лицо Сталина было на самом деле изъедено оспой, следы которой старательно ретушировались на всех официальных фотопортретах.
На самого Мандельштама «Четвертая проза», несомненно, оказала оздоровительное воздействие. Она была для него избавлением от наваждений, освободительным импульсом, без которого немыслима его поздняя лирика [261] О темах и мотивах «Четвертой прозы» см. подробнее в кн.: Mandelstam O. Das Rauschen der Zeit. Die ägyptische Briefmarke. Vierte Prosa. Gesammelte «autobiographische» Prosa der 20er Jahre. S. 325–333.
. «Больной сын» своего времени (образ из стихотворения «1 января 1924») внезапно понял, что болезнь присуща не ему, а его времени. В течение многих лет после смерти Мандельштама «Четвертая проза» сохранялась в виде зашифрованной потайной рукописи; о ее существовании знали только Надежда Мандельштам, Анна Ахматова и еще несколько друзей. Но в эпоху оттепели, в брежневские времена и вплоть до конца советской эры эта проза стала едва ли не священным текстом для художников, правозащитников, инакомыслящих. В «Листках из дневника» Ахматова помечает: «Эта проза, такая неуслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем 20 веке не было такой прозы» [262] Ахматова А. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 41.
.
«Открытое письмо» и «Четвертая проза» — свидетельства яростного мятежа поэта, который более не желает иметь дело с официальной «литературой» и начинает «с чистого листа». Но он уже знает, что движется навстречу смертельному холоду:
«Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы […] навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебреников и счета печатных листов» (III, 177).
Читая эту гневную ядовитую прозу, не следует забывать об истинном положении Мандельштама в этот период его жизни — о его страшной нужде. Вызывающее и брызжущее энергией бунтарство — лишь одна сторона. Повседневная жизнь Мандельштама на рубеже 1929 и 1930 годов отмечена частыми проявлениями психической подавленности. Его автопортрет в «Четвертой прозе» подвижен и неустойчив. Он подает себя то как гордого иудея, как «скорняка драгоценных мехов» (III, 176), но в то же время — как «стареющего человека» с «огрызком сердца», как беднейшего из цыган (III, 178).
В заключительной главе появляется шарманщик из «Зимнего путешествия» Шуберта, и Мандельштам дважды, по-русски и по-немецки, повторяет: «Ich bin arm — я беден». Его собственное зимнее путешествие уже началось. Он вел двойную жизнь. Дома, в убого обставленной комнате, его ждала зашифрованная рукопись «Четвертой прозы». Однако с января 1930 года, после того как газета «Московский комсомолец» закрылась, Мандельштам устраивается на несколько недель в газету «Вечерняя Москва», где руководит рабкоровским кружком и готовит к 23 февраля «громадный монтаж о Кр[асной] Армии» (IV, 134; письмо к Н. Я. Мандельштам от 24 февраля 1930 года). Можно легко представить себе, с какой «литературой» ему приходилось сталкиваться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: