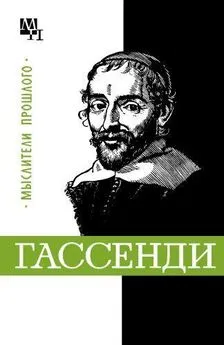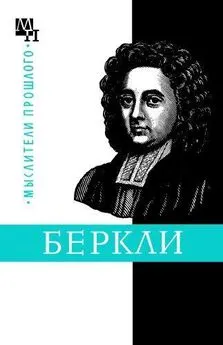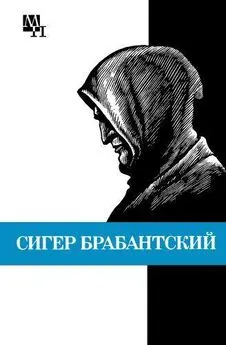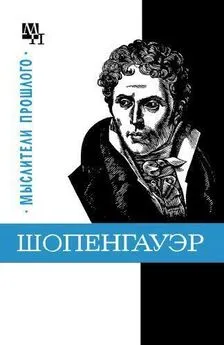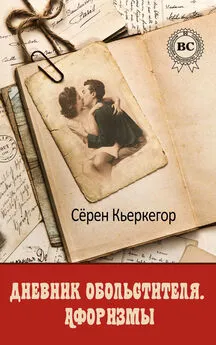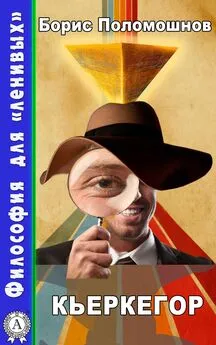Бернард Быховский - Кьеркегор
- Название:Кьеркегор
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бернард Быховский - Кьеркегор краткое содержание
В книге впервые в советской историко-философской литературе дается систематический анализ философских взглядов С. Кьеркегора — предшественника экзистенциализма, философского учения, Широко распространенного в современном буржуазном обществе.
Автор показывает специфику субъективного идеализма Кьеркегора. В книге критически рассматриваются основные категории экзистенциализма в том виде, как они выступают у Кьеркегора; прослеживается влияние идей Кьеркегора на современную буржуазную философию.
Кьеркегор - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таков фидеизм Кьеркегора, краеугольный камень всего его вероучения и всей его философии в целом — reductio ad absurdum философии, доказательство своего собственного учения путем приведения его к нелепости. Доказательство недоказуемости веры не ведет Кьеркегора к неверию, а, напротив, неудержимо влечет к неразумию, к безрассудной вере.
Противопоставляя учение Кьеркегора панлогизму Гегеля, Аллисон удачно назвал его учение „мизологизмом“, логиконенавистничеством. Если следовать, по Кьеркегору, разумным суждениям, то религия неизбежно предстанет перед нами в виде иллюзии. И никакой высший разум, превосходящий обычный рассудок, делу не поможет, так как и высший разум все же только разум. Единственная достойная функция разума — негативная. Верующий „пользуется разумом постольку, поскольку он с его помощью замечает непознаваемое, к которому он относится с верой против разума“ (6, 16, II, 280). Произведения Кьеркегора — наглядная иллюстрация того, как порой человеческий разум прилагает все свои силы и возможности, всю свою находчивость и изобретательность к тому, чтобы убедить себя и других в своем бессилии, в собственной неубедительности.
Занимательное зрелище представляет собой разыгрываемая кьеркегороведами дискуссия о том, является ли фидеизм датского философа противоразумным или только сверхразумным. Как известно, последняя формула — традиционное средство маскировки фидеизма в той его форме, которая полностью не отвергает разум, а устанавливает теологические границы его применения, сферу его приложения, „ее же не прейдеши“. Конечно, разум в границах веры, с постоянной оглядкой на церковные догмы — это изувеченный разум, закрепощенный фидеизмом. Но „безбрежный“ фидеизм Кьеркегора вообще отрицает философию. Подобный фидеизм вовсе не по вкусу католическому неотомизму, а также и тем протестантским теологам, которые заботятся о модернизации лютеранства в соответствии с запросами современного культурного человека.
Но как бы ни старались кьеркегорианцы убедить своих читателей в том, что у их вдохновителя речь идет не о противоразумной, а о сверхразумной вере, вступающей в силу лишь на высотах, недоступных конечному человеческому разуму, недвусмысленные высказывания самого Кьеркегора решительно опровергают их фидеистический оппортунизм. Прав Аллисон, говоря, что „вопреки протестам многих современных комментаторов эта позиция должна рассматриваться как радикально иррационалистическая“ (цит. по: 47, 135).
Неотомисты, преподносящие свой фидеизм в философской оболочке, отмежевываются от откровенного, неприкрытого фидеизма Кьеркегора, разграничивая сверхразумное и противоразумное, являющиеся на самом деле лишь двумя версиями фидеизма. Но это позволяет им в отличие от протестантских иррационалистов представить фидеизм Кьеркегора таким, каков он есть. „Вера, согласно Кьеркегору...— пишет по этому поводу Жоливэ,— против разума, а не только сверх него. Она есть смерть разума...“ (65, 80).
В этом Жоливэ усматривает отличие Кьеркегора от католического иррационализма Паскаля.
Самого Кьеркегора можно обвинить в чем угодно, но только не в отсутствии откровенности и прямолинейности при защите фидеизма, проникнутого стремлением „верить вопреки разуму“ (6, 16, II, 278). Человеку следует „открыть, что есть нечто, что прямо противостоит его мысли и его разуму“ (6, 16, II, 377—378). Он призывает к „распятию разума на кресте веры“ (6, 16, II, 276). И прав, пожалуй, X. Гарелик, когда на вопрос: „Сверх или против разума?“ — отвечает: и то, и другое» (44).
Учение Кьеркегора об истоках и сущности религиозной веры невольно наводит на мысль о Фейербахе. Это своего рода фейербахианство с отрицательным знаком. В этом учении наглядно демонстрируются характерные черты религии, уловленные и осмысленные в познавательном аспекте в «Сущности христианства».
Кьеркегор был знаком с работами своего старшего современника, великого немецкого атеиста, он не раз упоминает о людях, которые «хотят быть Фейербахом и самовластно упразднить всякую религию» (6, 36, 6). Для Кьеркегора Фейербах — «коварный демон», постигший тайну религии, поэтому он «видел в Фейербахе одновременно и невольного союзника, и отъявленного противника» (39, 36), врага, с мнением которого следовало считаться: «Ab hoste consilium» (8, 3, 249). Демоническую проницательность фейербаховской критики религии Кьеркегор усматривал в понимании Фейербахом того, что тайна теологии есть антропология. Он одобрительно цитирует соответствующую формулу из «Сущности христианства». Их concordia discors (взаимопротиворечивое согласие) состоит в том, что оба они — справа или слева — противники гегелевской трактовки религии и оба считают, что упразднение теологии является правомерным выводом из гегелевских основоположений. Кьеркегор ссылается на Фейербаха, указывая на то, что даже такой непримиримый противник религии находит корни ее в субъективности, чувстве, страсти, страдании. Отношение Кьеркегора к взглядам своего антипода — убедительное свидетельство прицельной меткости фейербаховской критики религии и вдумчивости его анализа психологии веры.
Комментаторы Кьеркегора часто заявляют, что при всей своей неприязни к философии Гегеля его датский хулитель широко использовал диалектический метод, тогда как Фейербах, порвав с идеализмом, отверг вместе с тем и диалектический образ мысли. Ознакомление с фидеистической концепцией Кьеркегора дает вполне ясное и отчетливое понимание того, что представляет собой в самом деле широко рекламируемая самим Кьеркегором его экзистенциальная, «двойная», «патетическая» диалектика — «сверхдиалектика».
Всесторонне разработанный Гегелем диалектический метод при всей своей ограниченности системой абсолютного идеализма направлен против рассудочной ограниченности, сверхрассудочен. Уже в самом немецком термине Verstand звучит ver stehen — ограниченность, застой, остановка мышления, и Гегель противопоставляет этому застою разум (Vernunft), открывающую безграничные перспективы диалектическую логику. Преодоление метафизики не выводит из сферы логики, а расширяет ее орбиту. Линия Кьеркегора ведет в диаметрально противоположном направлении. Она не только замыкает логическое мышление, но и оттесняет разум, противопоставляя формальнологическому рассудку не диалектический разум, а абсурд, парадокс, «скандальную» веру. Гегель приводит логическое мышление к диалектике, «парадоксальная диалектика» Кьеркегора уводит от логического мышления. «Говоря о том, чем может, должен и хочет быть абсолютный парадокс, абсурд, непознаваемое, мы приходим к страсти для того, чтобы установить диалектически отличие непознаваемости» (6, 16, II, 273). Речь идет о «диалектически сокровенной религиозной страсти» (6, 16, II, 215). Кьеркегор отвергает «претензию» науки на диалектику (6, 16, II, 267), которая на самом деле, по его утверждению, причастна не к науке, а к религии, диалектической во всех ее формах и парадоксально-диалектичной в христианстве (там же). Противоречие как парадокс, парадоксальная трактовка «качественного скачка», признание «диалектики» вечного, неизменного, непостижимого, божественного, абсолютная альтернатива в противовес единству противоположностей как основному закону диалектики — все это как небо от земли далеко от диалектической логики и по существу своему ничего общего с ней не имеет. В своей работе «Сокрушение разума» венгерский философ Дьердь Лукач убедительно раскрывает подлинную историкофилософскую роль «диалектики» Кьеркегора как алогической реакции на диалектическую логику, как иррационалистического перерождения диалектики (см. 78, 78).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: