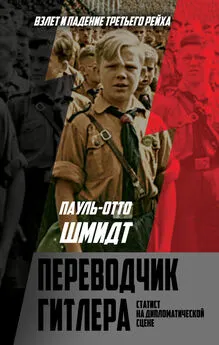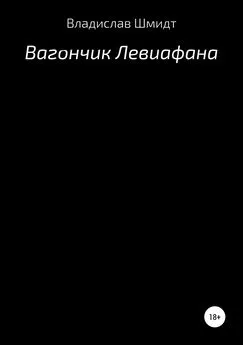Владислав Корякин - Отто Шмидт
- Название:Отто Шмидт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- ISBN:978-5-9533-5770-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Корякин - Отто Шмидт краткое содержание
Знаменитый полярник, директор Арктического института, талантливый руководитель легендарной экспедиции на «Челюскине», обеспечивший спасение людей после гибели судна и их выживание в беспрецедентно сложных условиях ледового дрейфа… Отто Юльевич Шмидт — поистине человек-символ, олицетворение несгибаемого мужества целых поколений российских землепроходцев и лучших традиций отечественной науки, образ идеального ученого — безукоризненно честного перед собой и своими коллегами, перед темой своих исследований. В новой книге почетного полярника, доктора географических наук Владислава Сергеевича Корякина, которую «Вече» издает совместно с Русским географическим обществом, жизнеописание выдающегося ученого и путешественника представлено исключительно полно. Академик Гурий Иванович Марчук в предисловии к книге напоминает, что О. Ю. Шмидт был первопроходцем не только на просторах северных морей, но и в такой «кабинетной» науке, как математика, — еще до начала его арктической эпопеи, — а впоследствии и в геофизике. Послесловие, написанное доктором исторических наук Сигурдом Оттовичем Шмидтом, сыном ученого, подчеркивает столь необычную для нашего времени энциклопедичность его познаний и многогранной деятельности, уникальность самой его личности, ярко и индивидуально проявившей себя в трудный и героический период отечественной истории.
Отто Шмидт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суть биологических наблюдений сводилась к тому, что околополюсный район заселен различными видами фауны, включая птиц, а также различными обитателями моря (рачками, креветками и т. д.).
Новым были и предложения Шмидта в части астронавигации, позволявшие определить собственное местоположение и величину дрейфа по двум осям координат.
Вывод докладчика по совокупности научных достижений заключался в том, что «…экспедиция… уже сейчас если не решила, то поставила очень много вопросов и, несомненно, освежающе подействует на полярную географию… что некоторые из этих вопросов она приблизила к решению» (Там же, с. 180).
Разумеется, Шмидт не мог обойти молчанием судьбу льдины с ее «экипажем», не побоявшись собственного прогноза в том, что они «…попадут туда, где им важнее быть и выгоднее быть, хотя и опаснее: попадут в пролив между Шпицбергеном и Гренландией, попадут не сразу, на их пути будет несколько петель и заворотов. Это будет живой, очень сложный процесс, но, в конце концов, их, по моему глубокому убеждению, неотразимо будет увлекать в сторону Атлантики. Должно ли это наполнять нас тревогой? Нет. Мы надеемся, что дрейф будет достаточно медленным, что через год он даст возможность спокойно закончить работу, что через год мы найдем их на этой же самой льдине, может быть, несколько постаревшей, в том же полярном бассейне, хотя и южнее. Но если бы наши предположения не оправдались, если под влиянием различных факторов, ускоряющих движение в одном направлении, их вынесет ранее, мы пойдем к ним на помощь на ледоколе. Если это случится полярной ночью, эта задача будет труднее» (Там же).
Сделать Шмидту подобный прогноз было гораздо труднее, чем Нансену почти полвека тому назад, поскольку норвежец опирался на свидетельства дрейфа остатков «Жаннеты», а в распоряжении Шмидта чего-либо похожего не было. Единственный существенный просчет, как показало уже ближайшее будущее, он допустил в темпах самого дрейфа. Но едва ли это может быть поставлено ему в вину.
Сам президент Академии наук академик В. Л. Комаров резюмировал сообщение Отто Юльевича такими словами: «В этом зале мы слышали много очень интересных докладов, но такого увлекательного доклада, как сегодня, мы еще не слышали».
Тем временем на самой льдине 11 июня температура впервые поднялась выше 0, и вскоре таяние стало доставлять ее обитателям много забот. Это отразилось в радиограммах на Большую землю: «Потоп сильно надоел, и мы нетерпеливо ждем заморозков». К 20 июля для обитателей льдины «…обстановка стала привычной, полностью освоились и приспособились к местным условиям. Весь распорядок жизни подчинен лишь одному требованию: добыть как можно больше первоклассных наблюдений» (Белов, 1969, с. 319). Однако короткое полярное лето закончилось в конце августа, а начало сентября ознаменовался морозами -10–15 °C. В августе пошли циклоны с ветрами и метелями и, соответственно, подвижками льда, причем высота образовавшихся торосов достигала 6 метров. Папанинцы тяжело переживали исчезновение самолета Леваневского, последняя связь с которым состоялась около 18 часов 13 августа, — Арктика напомнила, что не терпит шапкозакидательства. В конце сентября температуры достигали -20 °C, так что пришлось переходить на зимнюю одежду. А вскоре из-за сильных южных ветров в километре от станции образовалось длинное разводье, и сжатия стали повторяться чаще. «Лед так трещит, будто грузчики с высокого штабеля сбрасывают доски», — отметил в своем дневнике Папанин 5 октября, когда солнце последний раз осветило окрестности станции. А на следующий день экипаж льдины почувствовал отчетливые признаки торошения. То, что это происходило в области больших глубин порядка 3,5–4 километров, обостряло восприятие происходящего. 7 октября станция оказалась на 85°41′ с. ш., в 255 милях по прямой от места высадки, удаляясь от нее пока со скоростью порядка двух миль в сутки. Наступившие морозы осложнили проведение наблюдений: «Трудновато в этих условиях брать гидрологические станции. Металлические части приборов быстро стынут, и мокрые пальцы то и дело прилипают к металлу», тем более что из-за подвижек лебедку пришлось перенести на расстояние почти километр от станции. Всего за пять месяцев дрейфа было выполнено 20 гидрологических станций, обнаруживших присутствие теплых атлантических вод на глубинах 250–750 метров. С наступлением полярной ночи окружающий пейзаж посуровел: «Быстро несутся по светлому небу причудливо рваные клочья облаков. Временами показывается луна, и тогда таинственными монументами кажутся сгрудившиеся в стороне торосы. Черными длинными языками вытягиваются сугробы на застывшей белизне поля. Ребрами каких-то неведомых чудовищ выглядят мачты и воткнутые в снег лыжи. Приземистым силуэтом едва чернеет зарывшаяся в снег палатка. Сквозь замерзший круглый иллюминатор уютно поблескивает огонь» (Визе, 1948, с. 380).
Ситуация непростая, достаточно суровая, но, в общем, ожидаемая, если бы не новости с трассы Северного морского пути. Там обозначилась тревожная обстановка, грозившая непредсказуемыми последствиями для руководства ГУ СМП. Это Шмидт отчетливо почувствовал по встречам с хозяином Кремля 17 августа и 9 октября. Первая из указанных дат, видимо, связана с исчезновением 13 августа самолета Леваневского — в процессе очередного трансарктического перелета. Теперь Шмидту стало ясно, что на завершающей стадии арктической навигации рассчитывать на помощь авиации (задачей которой становились поиски пропавшей машины очередного рекордсмена) не приходится. Еще более тяжкое впечатление осталось у него после «беседы» с вождем советского народа 9 октября. Тогда ему наглядно объяснили, кто именно виноват в происходящем на трассе, потребовав принятия экстренных мер. Результатом стал приказ от 15 октября за № 605 об отстранении начальника Гидрографической службы Орловского от своих обязанностей «…за непринятие необходимых мер по ликвидации последствий вредительства» (Попов, 1990, с. 128). Орловский в это время оказался на «Седове», попавшем в вынужденный дрейф. Оценки происходящего из Москвы и из Арктики выглядели настолько по-разному, что руководство дрейфующих судов не стало доводить содержании радиограммы до адресата. Едва ли Шмидта на последней встрече со Сталиным предупредили о грядущем аресте С. А. Бергавинова, состоявшемся 31 октября, — в связи с предполагаемым покушением на самого Сталина! Факт тот, что Шмидт на пике Большого террора лишился партийной «крыши». И возможно, не случайно. В письме к Молотову 31 октября он (на основе данных своего «комиссара»!) вынужден был констатировать: «Наши территориальные управления оказались исключительно зараженными троцкистами, зиновьевцами, бывшими белогвардейцами и просто жуликами» (РГАЭ, ф. 9570, оп. 5, д. 109, л. 141), заимствуя стиль своего Политуправления, не свойственный прежде ему самому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: