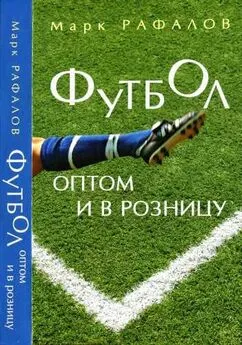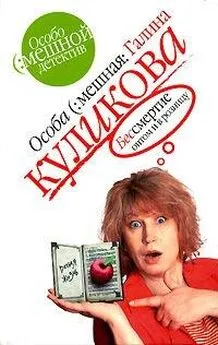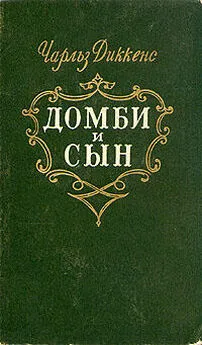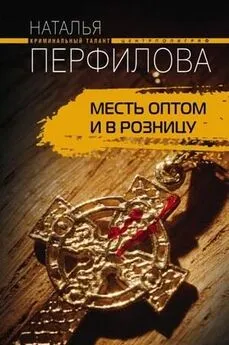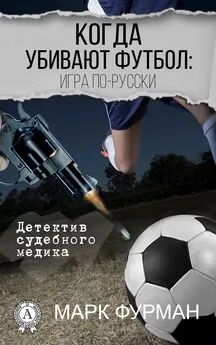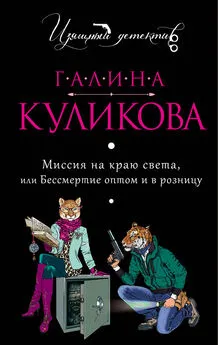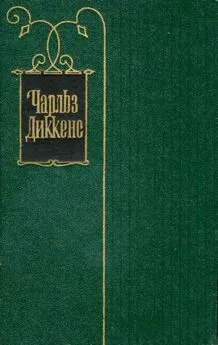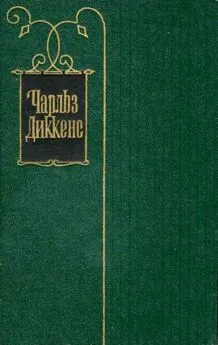Марк Рафалов - Футбол оптом и в розницу
- Название:Футбол оптом и в розницу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9697-0348-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Рафалов - Футбол оптом и в розницу краткое содержание
В прессе его называют: «Беспротестный судья и конфликтный инспектор» и пишут о нем: «Он был единственным в стране инспектором, который боролся с договорными играми». За 23 года судья Всесоюзной категории Марк Рафалов провел более 200 футбольных матчей на первенство и Кубок СССР, а после завершения судейской карьеры инспектировал матчи чемпионата страны. И всегда любимое занятие — судейство — совмещал с литературной работой: он автор многих книг, посвященных футболу, и острых газетно-журнальных публикаций о договорных матчах...
Эта книга — откровения скандального футбольного арбитра, но она не только о футболе.
Она о целой эпохе нашей страны, в которой «сын врага народа» Марк Рафалов, пройдя войну, стал кавалером 20 государственных наград!
Футбол оптом и в розницу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А неумолимое время уже заканчивает свой трагический отсчет. Отцу остается жить всего три месяца. Но надежды все же не покидают его: «...мы еще снова увидимся и будем жить одной семьей, дружной, крепкой, как и прежде...».
Последнее письмо было написано отцом 1 февраля 1944 года. «До окончания войны я не жду никаких изменений в моем положении. Но так как я уверен, что победоносный конец будет в ближайшее время, то 1944 год может принести много существенных изменений в моем положении».
Изменения действительно произошли. И весьма существенные: 7 марта 1944 года отец умер в Магадане. Недавно ему исполнилось 48... Всего 48...
Много лет спустя, 22 мая 1957 года, Верховный суд СССР принял решение об отмене постановления Особого Совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР от 23 августа 1938 года в отношении Рафалова Михаила Арнольдовича, 1895 года рождения, «за отсутствием состава преступления». Но отца уже не было в живых, и мы с мамой даже не знали, где его могила.
После реабилитации отца я получил в Тимирязевском ЗАГСе г. Москвы свидетельство о его смерти. В нем говорится: «Умер седьмого марта 1944 года. Причина смерти — паралич сердца... Место смерти — город Москва». На мой недоуменный вопрос сотрудница ЗАГСА голосом, не терпящим возражений, сказала: «Гражданин (тогда еще не придумали нынешнего «звания» — мужчина), мы знаем, что пишем».
Желая получить подтверждение о месте, дате и причине смерти отца, я обратился в УВД Магаданского исполкома. Вскоре получил ответ, который подписал начальник ИЦ УВД Г.А. Сабанов. В его письме говорится: «Умер 07 марта 1944 года. Причина смерти: паралич сердца. Захоронен в Магадане, в настоящее время кладбища с захоронениями до 1960 года сносятся».
Холодным, леденящим душу безразличием и цинизмом дышит каждая строка этого послания. И словно пощечина в заключение: «сносятся». Как будто речь шла о старом заборе или курятнике.
Вы обратили внимание на грубейший подлог: ЗАГС утверждает, что отец умер в Москве, а Магаданское УВД — что в Магадане?!
Вообще правда о последних днях жизни отца почти 20 лет оставалась для нашей семьи тайной за семью печатями. Я уже упоминал, что последнее письмо отца было датировано первым февраля 1944 года. А потом наступило душераздирающее молчание. Удушливая тоска от полного неведения о судьбе дорогого человека терзала душу нашей мамы.
Война катилась к своему победоносному завершению. До окончания срока заключения отца оставалось чуть больше двух лет. А что с ним, почему он замолчал, мама и Юля не ведали. Мамины попытки узнать что-либо натыкались на холодную стену молчаливого равнодушия.
Как она все это переносила, я даже представить себе не могу. Мне было значительно легче: я был погружен во фронтовые будни, мы, несмотря на отчаянное сопротивление немцев, продвигались к старой границе с Латвией. Все наши мысли занимали военные проблемы. Лишь в коротких перерывах между боями мы делились своими мечтами о предстоящей жизни после разгрома фашистов.
Об отце я мог узнавать только из писем мамы, а она почему-то перестала писать о нем: видимо, не хотела меня огорчать. Только вернувшись домой, я узнал, что в конце войны к маме заезжал какой-то пожилой изможденный мужчина, отбывавший срок вместе с отцом. Их места на нарах располагались рядом. Они в тягостные морозные дни мечтали об освобождении и возвращении домой, к своим семьям. Тогда-то они условились, что если кому-либо посчастливится вырваться из гулаговского ада, то он посетит семью товарища по несчастью и расскажет о его судьбе.
И вот к маме, словно с того света, пришел посланец отца и поведал горькую новость. Он рассказал, что в ночь на 7 марта 1944 года лежавший с ним рядом на нарах отец умер. Все произошло тихо и неожиданно; отец внезапно вскрикнул во сне и затих. Врач констатировал смерть.
К сожалению, у мамы не сохранилось ни адреса, ни фамилии человека, принесшего ей скорбное извещение. Думаю, что и это отнюдь не случайность. Видимо, освобождавшимся из-под стражи зекам строго-настрого запрещали делиться с кем бы то ни было подробностями лагерного быта. Тем паче надлежало хранить в тайне сведения об умиравших товарищах.
Можно ли было верить маминому гостю? На этот вопрос теперь уже вряд ли удастся получить достоверный ответ. Точно стало известно только одно: мама стала вдовой, а мы с сестрой лишились отца.
И невольно память подсказала из «Непридуманного» Льва Разгона: «Они все канули в неизвестность, чтобы через двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все — и дата, и причина — все было лживо. Кроме одного — умер».
Эти же мысли терзали замечательную поэтессу Анну Андреевну Ахматову, отозвавшуюся на происходящее еще в марте 1940 года бессмертными строками:
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать...
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.
Как все это непостижимо и страшно. Поймут ли это приходящие в жизнь сегодня? Задумаются ли: как можно было так жить?
Вряд ли можно рассказывать о жизни практически любой советской семьи в начале 40-х годов, не затрагивая военной темы. Война грубо, необратимо вторглась в нашу жизнь.
Начало войны, как это ни парадоксально, принесло в жизнь нашей семьи какое-то облегчение. И материальное, и моральное. Маму приняли на работу в школу № 168 на должность секретаря-машинистки.
Школа располагалась на углу Большой Дмитровки и Петровского переулка. Теперь на месте старенького, невзрачного здания красуется новое, современное. В нем заседает Совет Федерации.
Мамина работа давала ей право на рабочую продовольственную карточку, что было чрезвычайно важно. После моего призыва в армию мама, носившая несколько лет несмываемое клеймо жены «врага народа», обрела новый статус: мать солдата. А когда в январе 1943 года я в составе 15-й Гвардейской отдельной морской стрелковой бригады начал свой фронтовой путь, мама получила своеобразное повышение в звании — она стала матерью фронтовика! Все это существенно изменило отношение к нашей семье.
Работая в школе на скромной должности секретаря, мама умудрилась совершить, как, наверное, сказали бы сегодня, гражданский подвиг.
Сейчас многие знают, а все пожилые люди помнят, в каком тяжелейшем состоянии оказался фронт, оборонявший столицу, к середине октября 1941-го. Особенно врезался в память страшный день — 16 октября. Я был все время в Москве и хорошо помню тот день. Помню пепел, летящий из труб различных учреждений, где жгли архивы; москвичей, быстро семёнящих по улицам с большими Кульками муки, выданной им сверх нормы; беженцев, идущих на восток с вещевыми мешками за плечами. Помню панику на улицах и на вокзалах. Все было непредсказуемо, страшно, тревожно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: