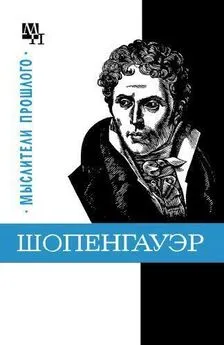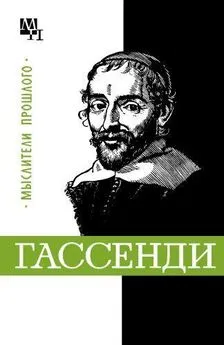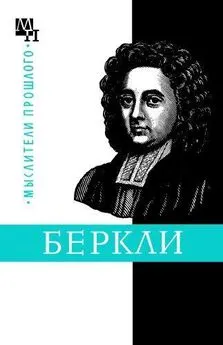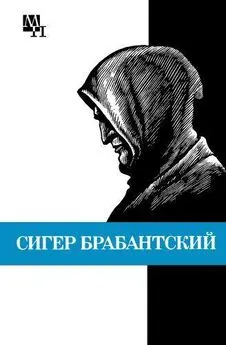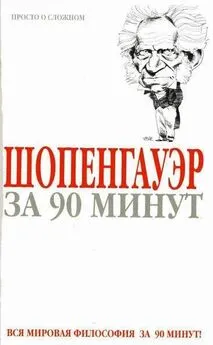Бернард Быховский - Шопенгауэр
- Название:Шопенгауэр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бернард Быховский - Шопенгауэр краткое содержание
Работа представляет собой критический анализ системы одного на своеобразнейших философов XIX в., Артура Шопенгауэра. Автор рассматривает важнейшие аспекты философии Шопенгауэра — его теорию мира как воли, гносеологию, этику, эстетику, а также место воззрений Шопенгауэра в современной буржуазной философии.
Шопенгауэр - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В своей статье «Уникальная мысль Шопенгауэра» известный французский историк философии Э. Брейэ следующим образом характеризует крутой поворот, совершенный Шопенгауэром в истории философии: «До сих пор сознание было на службе неведомой ему драмы, подобно марионетке, воображающей, будто она действует свободно и не чувствует движущих ее нитей: сделанная для того чтобы служить, она не была способна управлять. Теперь все перевернулось; оно уловило всю драматическую интригу, оно достигает развязки спектакля и прекращает его» (48, I, 587). Марионетка осознает, что она есть, но ведь нити-то ею не обрываются!
Отголоски шопенгауэрианства звучат все громче и сильнее по мере инфляции буржуазной идеологии: «Мышление Шопенгауэра, первоначально неглижируемое как слишком банальное, несколько десятилетий позднее снабжало доводами и аргументами самые различные запросы» (48, IV, 1227), притом не только чисто философские. Философия Шопенгауэра, отмечает Байо в статье «Актуальность Шопенгауэра», «продолжает оказывать в настоящее время свое актуальное воздействие как в области философии, так и в области искусства и литературы» (43, 41). Декадентское искусство и литература наших дней все настойчивее и радикальнее осуществляют эстетические заветы Шопенгауэра, противодействуя социальной ответственности художника, всячески стараясь использовать искусство как средство для увода от общественных интересов, от пробуждения и формирования политических убеждений, от активизации общественной деятельности. Деидеологизация, деполитизация, искейпизм стали широко распространенными и всячески поощряемыми средствами идеологического и политического воздействия реакционных сил на общественное сознание. Наркотическая эстетика Шопенгауэра стала нормативом для широко рекламируемых, отравляющих психику товаров «эстетического» ширпотреба.
Было бы нелепым объяснять деградацию, деморализацию и идеологическое уродство различных порождений современной буржуазной антикультуры тлетворным влиянием философии Шопенгауэра. Но если бы Шопенгауэр воскрес после более чем столетнего пребывания в блажестве Нирваны, то, взглянув на охотно покинутый им «безумный, безумный, безумный мир» слепой воли и иллюзорных представлений, он мог бы самодовольно убедиться в том, что его творческие усилия по деформации общественного сознания не пропали даром и играют предназначенную им роль в борьбе против ненавистных ему революционных сил, что прогноз его: «Мое время придет» — сбылся.
Невозможно судить о Шопенгауэре, руководствуясь пословицей: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». О нем нужно судить по формуле: «Скажи мне, чей ты враг, и я скажу тебе, кто ты». А количество тех, чьим врагом он был, бесчисленно. Его первым врагом была классическая немецкая философия. Его злейшим врагом были революционные борцы 1848 г. Он был жестоким женоненавистником: целые страницы его «Афоризмов» испещрены злословием о «слабом поле». Он был свирепым антисемитом, возмущавшимся тем, что христианство не отреклось от иудейского Ветхого завета. Англичане — сплошные лицемеры. Главная черта в национальном характере итальянцев — это «совершеннейшее бесстыдство». Истинный характер американской нации — пошлость. А французы? «В других частях света есть обезьяны: в Европе же — французы. Это выходит на одно» (5, IV, 422). А его родной народ? «Нация, ученая каста которой битых тридцать лет считала за ничто, и даже менее чем за ничто, мои произведения, не удостаивая их взглядом» (7, III, 521), — это нация, у которой нет ни стыда ни совести. И «я исповедуюсь здесь на случай своей смерти, что я презираю немецкую нацию за ее чрезмерную глупость и стыжусь своей принадлежности к ней» (5, IV, 356). Он всячески восхвалял свое одиночество, свое отчуждение от «толпы», от окружающей его «черни». «Мизантропия и любовь к одиночеству — для него — синонимы» (5, IV, 532). Свое презрение к людям он отождествлял со своей гениальностью.
Свое основное произведение Шопенгауэр завершает словами: «…Для тех, у кого воля обратилась вспять и отрицает себя, весь этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто». А что для них — последышей Шопенгауэра — человечество, народные массы? Что для них общественная деятельность, борьба, социальный прогресс, революционное преобразование всего этого «столь реального мира»? Ничто. Воля, обратившаяся вспять и отрицающая себя, превращает пассивность, апатию, квиетизм в Абсолют, выступает в авангарде ультраконсерватизма под черным знаменем: «Так было, так будет!»
Я не обнаружил никаких свидетельств того, что Шопенгауэру были знакомы произведения его младших современников — Маркса и Энгельса. Но нетрудно представить себе, в какое бешенство привел бы его «Манифест Коммунистической партии», как рассвирепел бы он, услышав о том, что призрак коммунизма бродит по Европе, какую гневную ненависть вызвал бы у него клич: «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией».
Энгельс в одном из своих черновиков предисловия к «Диалектике природы» писал о Шопенгауэре в 1878 г.: «Среди публики получили… широкое распространение… приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра» (1, 20, 368). Как же так, возмутятся его поклонники: Шопенгауэр — филистер?! Да он же только и делал, что боролся с филистерством! Разве он в своих «Поучениях и правилах», пятой главе «Афоризмов житейской мудрости», не утверждал, что «человек, не имеющий вследствие — нормальной, впрочем, — ограниченности умственных сил никаких духовных потребностей, называется филистером…»? Но тут же он разъясняет: «С высшей точки зрения я дал бы понятию филистера такое определение: это — человек, постоянно и с большой серьезностью занятый реальностью, которая в самом деле не реальна…» (8, 40).
А вот что реально, согласно кодексу его заповедей: «…для благоденствия существеннее всего здоровье, а после него средства к жизни, т. е. доход, могущий избавить нас от забот» (8, 53). Но все блага жизни относительны, «лишь деньги абсолютное благо, так как они удовлетворяют не одну какую-либо потребность — in concreto, а всякую потребность — in abstracto» (8, 45). Не вздумайте принять это за ироническую характеристику облика филистера, это — норматив образа жизни, избранного самим автором. Послушаем дальше его поучения житейской мудрости: «Скромность — это прекрасное подспорье для болванов; она заставляет человека говорить про себя, что он такой же болван, как и другие» (8, 60). А не болван «имеет непоколебимое внутреннее убеждение в своих непреложных достоинствах и особенной ценности» (8, 59). Всего важнее — обрести спокойствие, которому всячески способствует замкнутый образ жизни: «Уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями» (8, 58), а «ценить высоко мнение людей будет для них слишком много чести» (8, 53). Надо «довольствоваться самим собою, быть для себя всем и иметь право сказать: „Omnia mea mecum porto“ (все свое ношу с собой) — это бесспорно важнейшее данное для счастья» (8, 130–131). И наконец, «будем откровенны: как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно человек желает добра лишь самому себе, да разве еще своим детям» (которых у Шопенгауэра не было) (8, 134). Таковы некоторые из пятидесяти трех нравоучений прославленного ныне франкфуртского философа, решительно осуждавшего эгоизм и волю к жизни. Энгельс знал, что кроется за самодовольным лицемерием хулителя «человеческой толпы всех времен и народов, в силу ее низменных помыслов, интеллектуальной тупости и грубости» (5, II, 654), ставшего классиком новейшей буржуазной философии. «Все свое» он оставил за собой. Энгельс знал, чего стоит теория Шопенгауэра на практике и какого рода «духовные потребности» она способна удовлетворить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: