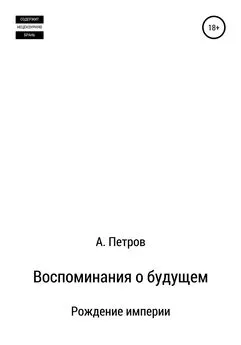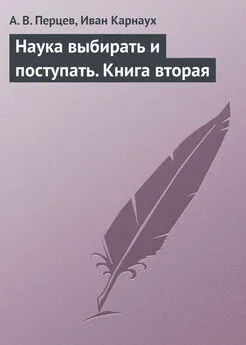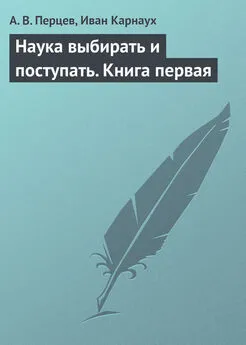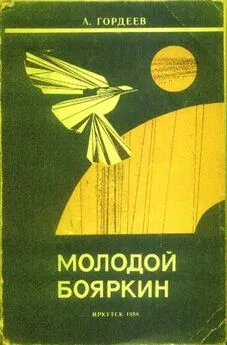Александр Перцев - Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии
- Название:Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Русской Христианской гуманитарной академии
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88812-557-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Перцев - Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии краткое содержание
Карл Ясперс (1883–1969) — одна из ключевых персон в интеллектуальной жизни XX в. Он был психиатром, философом, культурологом. Вопреки времени, редко оставлявшему место для гуманности, он стремился «сохранить человека», и вопреки мнению большинства психиатров, считал возможным говорить о душе. Был экзистенциализм философской программой или способом сохранить себя? Как рождалось самое мощное философское движение? Благодаря и вопреки чему Ясперс стал столь ярким мыслителем? Это лишь некоторые вопросы, поднимаемые автором книги. Дополняет издание «Философская автобиография» К. Ясперса, до настоящего времени малодоступная в русском переводе. Автор книги и перевода — Александр Владимирович Перцев, профессор, доктор философских наук, специалист по современной западной философии, известный также своими переводами Ф. Ницше, К. Ясперса, П. Слотердайка, Ф. Г. Юнгера и др.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся современной философией и психологией.
Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Случались вещи, которые действовали на меня как ушат холодной воды. В 1923 году вышла в свет моя брошюра «Идея университета». Из Фрайбурга мне сообщили, что Хайдеггер заявил, будто бы это — самое незначительное из того, что сегодня есть незначительного. При очередном его визите я сказал ему, что наши отношения требуют полной взаимной откровенности. Я ни в коем случае не запрещаю ему высказывать свои суждения, но прежде чем мы будем говорить что‑либо в таком роде другим, нам следовало бы без обиняков обсудить это между собой, как поступают порядочные люди. Хайдеггер определенно отрицал, что говорил нечто подобное. На это я сказал: «Ну, в таком случае я считаю, что ничего не было и инцидент исчерпан». Хайдеггера тронула моя реакция. Он сказал: «Ничего подобного я еще не переживал». Я так и не понял толком, что он имеет в виду.
Странно, однако, было то, что сплетни подобного рода продолжали возникать. Так, в том же 1923 году до меня дошло еще одно его высказывание: «Не можем же я и Ясперс быть соратниками». Оттого‑то и возникло в наших отношениях что‑то такое, что нельзя было объяснить внятно, нельзя было отбросить совсем, но и всерьез принимать не следовало. Тем не менее, настроение это портило. После 1933 года я, в свою очередь, тоже высказывался о Хайдеггере, не ставя его об этом в известность.
С самого начала я, сам не замечая того или не ломая особенно голову по этому поводу, просто не обращал внимания на вещи, представлявшиеся мне естественными, само собой разумеющимися, зато хорошо улавливал те тона, которые казались мне фальшивыми. Вероятно, так же было и у Хайдеггера в отношениях со мной. Если он стал мне близок благодаря способности, проникая взглядом за все покровы условностей, видеть вместе со мной беды и недуги, крайности и пределы, то отдалял его от меня способ, которым он постигал их. Я видел его глубину, но с трудом переносил нечто другое, что плохо поддается определению. Он напоминал мне друга, который изменяет тебе в твое отсутствие, но бывает незабываемо близок в те моменты, когда вы вместе. Мне казалось порой, уж не сидит ли в нем какой‑то демон, о котором он сам не подозревает, и я, чувствуя симпатию к существенному в нем, заставлял себя не обращать внимания на неприятные моменты.
За эти десять лет во мне еще более усилилось это противоречие симпатии и отчуждения, противоречие между восхищением его возможностями и неприятием непостижимого сумасбродства, между чувством нашего единства в том, что касалось основы философствования, и ощущением, что отсюда проистекает его иная, весьма далекая мне позиция.
В последующие годы атмосфера во время визитов Хайдеггера, кажется, изменилась. Раньше он приезжал настроенным беззаботно и с искренним расположением ко мне, что проявлялось в первую же минуту встречи. Теперь он стал приезжать сумрачным. Через день — два все это полностью исчезало. Снова устанавливалась атмосфера доверия, открытого, чистосердечного, непринужденного, интересного для обоих разговора — так мне казалось тогда и кажется еще сегодня. Первоначальная неловкость как бы улетучивалась при нашем общении, лед отчуждения таял.
Выход в свет «Бытия и времени» Хайдеггера (1927) не углубил наших отношений — скорее, наоборот. Но тогда я просто этого не заметил. Я отреагировал на это событие точно так же, как несколькими годами раньше — на его критику моей «Психологии мировоззрений»: все это не вызывало у меня подлинного интереса. Еще в 1922 году Хайдеггер прочитал мне несколько страниц из тогдашней своей рукописи. Прочитанное осталось мне непонятным. Я всегда требовал естественного способа выражаться. Хайдеггер сказал как‑то позже, что с тех пор ушел далеко вперед: переделал то, что было, и получилось нечто. О содержании книги, вышедшей в 1927 году, я до этого ничего не знал. Теперь передо мной было произведение, впечатлявшее прежде всего интенсивностью разработки тем, конструктивностью понятийного аппарата, меткостью нового словоупотребления, часто вызывавшего подлинные откровения. Но, несмотря на блеск в книге модного анализа, она, на мой взгляд, не давала ничего из того, к чему я стремился в философии и что я хотел получить от нее. Я радовался достижению человека, связанного со мной, но читать книгу у меня не было никакого желания, я часто увязал в ней, как в болоте, потому что ее стиль, содержание, манера мышления автора мне не импонировали. Я также не воспринимал книгу как что‑то такое, о чем мне следовало полемизировать, развивая какие‑то идеи. В отличие от бесед с Хайдеггером, книга его ни на что не натолкнула меня.
Хайдеггера, должно быть, разочаровала моя реакция. Я, имеющий большой стаж занятий философией, не оказал ему услугу, основательно прочитав книгу и подвергнув ее критическому разбору так, как он, совсем молодой, сделал это с моей «Психологией мировоззрений». Понятно, что и он со своей стороны уже не проявлял подлинного интереса к моим последующим публикациям. Если людей связывало что‑то до выхода их произведений, они порой бывают склонны уделять этим произведениям меньшее внимание, чем своим отношениям. Им кажется, что когда хорошо знаком с человеком, вовсе не обязательно читать его работы основательно, от корки до корки. Но здесь дело было не только в этом. Скорее всего, в наших произведениях явственно выразилось скрытое отчуждение между нами.
Мое отношение к этой книге и к самому Хайдеггеру было продолжением той неопределенности или неоднозначности, которая с самого начала присутствовала в зародыше в наших отношениях. Поскольку в предшествующие годы меня сопровождало сознание того, что мы — вместе, я ожидал и от книги, что смогу почувствовать в ней нечто, лежащее на том пути, по которому иду и я. Такого не произошло, но я не отказался от этого ожидания. Я был недоволен тем настроением, которое отразилось в книге. Порой я выражал это в вопросах к Хайдеггеру, типа таких: «Что происходило в вас самом, когда вы создавали эту книгу? Это что — сумма интеллектуальных проникновений в реальное положение вещей или выражение какого‑то импульса экзистенции? и какое воздействие на читателя должна оказать эта книга при ее изучении?». Я хорошо помню, как задавал эти вопросы в мансарде своей квартиры, но не припомню, чтобы Хайдеггер ответил на них.
В другой раз я сказал, памятуя, что мнения о наших коллегах у нас часто совпадали: мне удивительно, что он ссылается на профессоров — как будто они не обсуждают совершенно иные проблемы, чем он. Посвящение его первой книги Риккерту, а второй — Гуссерлю, по — моему, указывало на его связь с людьми, о которых он говорил мне с презрением. Он подавал себя так, будто традиционно принадлежит миру, которому мы противостояли. На что он ответил: «Зато они традиционны в своей фактической философии».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
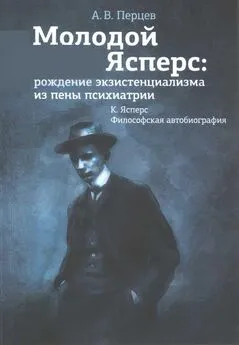

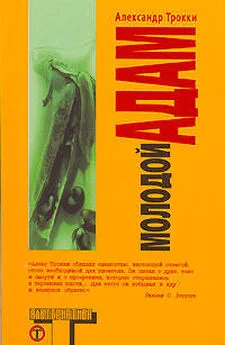
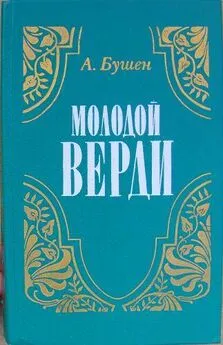


![Александр Дроздов - Эликсир. Новое рождение [СИ]](/books/1083145/aleksandr-drozdov-eliksir-novoe-rozhdenie-si.webp)